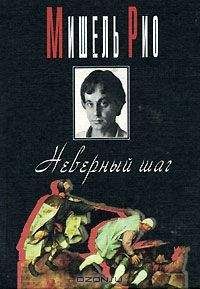Андре Жид - Имморалист
— Хорошо, уходите, если желаете! Я вас не удерживаю, — сказал я им, взял обещание аренды и разорвал у них на глазах.
Итак, я остался с более чем ста гектарами земли на руках. Уже некоторое время я подумывал о том, чтобы поручить заведывание ими Бокажу, считая, что этим, хотя и косвенно, я передаю его Шарлю; я воображал также, что сам буду усиленно этим заниматься; впрочем, я почти не размышлял: самый риск предприятия соблазнял меня. Фермеры должны были уехать только около Рождества, до тех пор мы как-нибудь обернемся. Я сообщил об этом Шарлю; его радость сразу же не понравилась мне; он не мог скрыть ее; благодаря этому я еще сильнее почувствовал его чрезмерную молодость. Времени оставалось немного; наступила пора, когда снят урожай и земля свободна для запашки. По установившемуся обычаю, работы старого и нового фермера идут непрерывным порядком; первый оставляет свои владения участок за участком, как только снят урожай. Я боялся мести в качестве каких-нибудь проявлений враждебности со стороны обоих уволенных арендаторов, но они, наоборот, изображали по отношению ко мне полнейшую любезность (я только впоследствии узнал, из какой выгоды они это делали). Я пользовался этим, чтобы утром и вечером бродить по их полям, которые должны были скоро ко мне вернуться. Начиналась осень; пришлось взять больше рабочих, чтобы ускорить запашку и посев; мы купили бороны, катки, плуги; я разъезжал, наблюдал за работами, руководил ими, радовался тому, что сам распоряжаюсь и властвую.
Тем временем на соседних полях арендаторы начали сбор яблок; яблоки падали, катились в густую траву, их было так много, как еще никогда; не хватало работников; приходили из соседних деревень; их нанимали на неделю; Шарль и я иногда ради забавы помогали им. Некоторые сбивали с веток запоздалые плоды; отдельно складывали яблоки, которые сами падали от чрезмерной зрелости, иной раз подгнившие; часто они лежали побитые или раздавленные в высокой траве; не было возможности не наступать на них. Терпкий и сладкий запах, подымавшийся от полей, смешивался с запахом вспаханной земли.
Осень надвигалась. Утра последних ясных дней — самые свежие, самые прозрачные. Иногда влажный воздух синил даль, еще более отодвигая ее, и превращал прогулку в путешествие, неестественная прозрачность воздуха приближала горизонт; казалось, его можно было задеть крылом; я не знаю, что из двух наполняло душу большим томлением. Моя работа была почти закончена; по крайней мере я так говорил себе, чтобы иметь больше права отвлекаться от нее. Все время, которое я не проводил на ферме, я был около Марселины. Вместе мы выходили в сад; мы шли медленно; она томно и тяжело опиралась на мою руку; мы садились на скамейку, откуда видна была вся долина, которую вечер заливал светом. Она нежным движением опиралась на мое плечо, и мы так сидели до вечера, без жестов, без слов, чувствуя, как тает в нас день… Каким молчанием умела уже окутываться наша любовь! Это потому, что любовь Марселины была сильнее, чем выражающие ее слова, и я бывал подчас почти тоскливо взволнован этой любовью. Как иногда от дуновения трепещет совсем спокойная вода, так можно было прочесть на ее лице самое легкое волнение; таинственно она слушала в себе трепет новой жизни; я наклонялся над ней, как над глубоким и чистым водоемом, в самой глубине которого, насколько хватало зрения, видна была лишь одна любовь. Ах! Если только это было счастье, я знаю, что с той поры я хотел удержать его, как тщетно пытаешься удержать между рук убегающую воду; но я уже чувствовал рядом со счастьем что-то другое, что прекрасно расцвечивало нашу любовь, но так, как расцвечивает осень.
Осень надвигалась. Роса, с каждым утром все более мокрая, не высыхала на опушке леса; на заре она была белая. Утки на прудах били крыльями, они дико трепыхались, иногда видно было, как они поднимаются и с резким криком шумно летают над Ла Мориньер. Однажды утром они исчезли; Бокаж запер их. Шарль сказал мне, что их запирают каждую осень в пору перелета птиц. Через несколько дней погода переменилась. Как-то вечером вдруг поднялся сильный ветер, сильное, нераздельное дыханье моря, принесшее с севера дождь и унесшее перелетных птиц. Состояние здоровья Марселины, хлопоты об устройстве новой квартиры, подготовка к моим первым лекциям — все должно было торопить нас в город. Рано начавшаяся плохая погода прогнала нас.
Правда, из-за работ на ферме я должен был бы вернуться туда в ноябре. Я очень досадовал, узнав новые планы Бокажа; он объявил мне о своем желании снова отправить Шарля на образцовую ферму, на которой, как он считал, сыну надо было еще поучиться. Я долго спорил, пустил в ход все доводы, какие только мог придумать, но не мог его заставить уступить; он согласился только на то, чтобы несколько сократить это обученье, что позволило бы Шарлю вернуться немного раньше. Бокаж не скрывал от меня, что управление двумя фермами будет делом не легким; но он сообщил мне, что у него есть в виду два очень надежных крестьянина, которых он собирался взять к себе на службу; это будут почти фермеры, почти арендаторы, почти рабочие; дело было для нашего края слишком новым, чтобы он решался меня очень обнадеживать в смысле успеха; но, говорил он, "ведь вы сами этого захотели". Разговор этот происходил в конце октября. В первых числах ноября мы переехали в Париж.
IIМы поселились на улице С., около Пасси. Квартира, которую нам подыскал один из братьев Марселины и которую мы осмотрели во время нашего последнего приезда в Париж, была гораздо больше перешедшей ко мне от отца, и Марселину немного беспокоила не только более высокая плата, но и всякие связанные с квартирой расходы. Ее страхам я противопоставлял свое притворное отвращение ко всему, что недоделано; я заставлял себя верить в это и намеренно это преувеличивал. Конечно, различные расходы по устройству превысят наш годовой доход. Но наше уже давно значительное состояние сейчас должно было еще увеличиться; я рассчитывал на свои лекции, на издание моей книги и даже — какое безумие! — на доходы со своих ферм. Поэтому я не останавливался ни перед какими тратами, убеждая себя при каждой из них, что я этим крепче связываю себя, и полагая, что вместе с тем я убиваю всякий вкус к бродяжничеству, который я ощущал — или боялся, что ощущаю — в себе.
Первые дни, с утра до ночи, у нас проходили в разъездах по делам; хотя вскоре брат Марселины очень любезно предложил взять некоторые из них на себя, Марселина быстро почувствовала сильную усталость. Потом, вместо отдыха, который ей был необходим, ей пришлось, как только мы устроились, принимать гостей за гостями; благодаря отдалению, в котором мы до сих пор жили, они теперь особенно охотно собирались у нас, а Марселина, отвыкшая от света, не умела сокращать визиты и не решалась вовсе не принимать; вечером я видел ее совсем замученной, и если я не беспокоился по поводу ее слабости, естественная причина которой мне была известна, то, по крайней мере, я старался ее уменьшить, часто принимая вместо нее, что доставляло мне мало удовольствия, а иногда отдавая визиты, что доставляло мне удовольствия еще меньше.
Я никогда не был блестящим собеседником. Салонное легкомыслие, дух салонов — вещь, которая мне никогда не нравилась; правда, я в прежнее время часто бывал в них — но это время было так далеко! Что произошло с тех пор? Я чувствовал себя рядом с другими тусклым, скучным, недовольным, стеснительным и вместе с тем стесненным… По несчастной случайности, вы, которых я тогда уже считал единственными моими друзьями, не были в Париже и должны были вернуться еще очень нескоро. Легче ли было бы с вами разговаривать? Быть может, вы бы меня лучше поняли, чем я понимал себя сам! Много ли я знал о том, что росло во мне и о чем я вам сегодня рассказываю? Будущее казалось мне вполне спокойным, и никогда я не считал себя настолько хозяином его, как тогда.
И даже если бы я был проницательнее, какую помощь против себя самого мог бы я найти в Гюбере, Дидье, Морисе и стольких других, которых вы знаете и цените не больше, чем я? Очень скоро, увы, я увидел невозможность быть понятым ими. С первых же бесед я увидел, что они как бы заставляют меня играть искусственную роль, заставляют, под страхом прослыть притворщиком, походить на того, кем я, с их точки зрения, был и остался; и для большего удобства я притворно принял мнения и вкусы, которые мне приписывали. Нельзя быть одновременно искренним и казаться им.
Я несколько охотнее встречался с людьми своей профессии, археологами и филологами, но в беседах с ними нашел немногим больше удовольствия и волнения, чем в перелистывании хороших исторических справочников. Вначале я еще надеялся найти более непосредственное понимание жизни у нескольких романистов и поэтов, но признаться, они его вовсе не обнаружили; мне казалось, что большинство из них не живет, а довольствуется тем, что кажется живущим, и еще немного — они стали бы рассматривать жизнь, как досадную помеху к сочинительству. Я не мог осуждать их за это; я не утверждаю, что ошибка была не с моей стороны… Впрочем, что я понимал под словом "жить"? — Это как раз то, чему мне хотелось, чтобы меня научили. Все они ловко рассуждали о разных жизненных событиях, но никогда о том, чем эти события определяются.