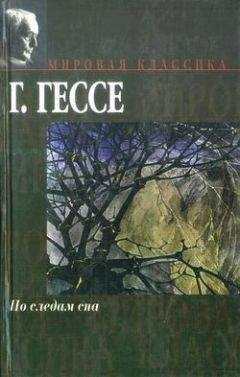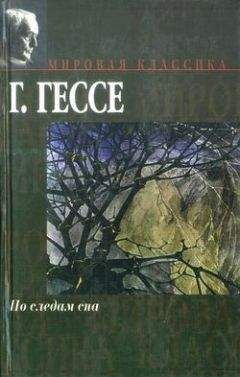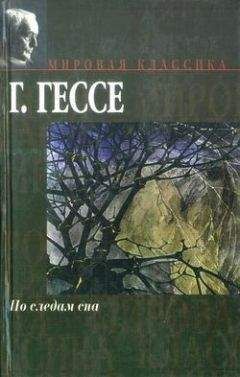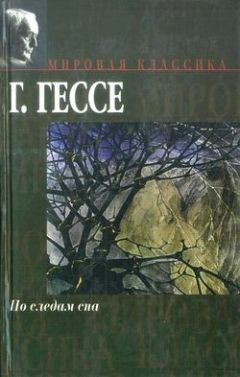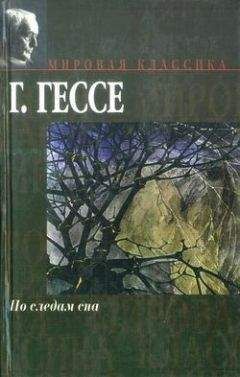Герман Гессе - Листки памяти
Вот тот осадок горечи, что остался во мне после этой вспышки пробуждения. Но эта горечь была еще не вся. Устыжающий урок заключал в себе мораль для меня самого, но была и другая мораль – для всех: она язвила душу в первый момент не так сильно, но зато и действовала глубже – такова уж природа истины, всегда неприятной и непреклонной. А дело было в следующем: ведь и то счастье, которым обладал Ганс и которым так светилось его лицо, ведь и оно не было долговечным, ведь и ему суждено было увянуть, пропасть, ведь и я им владел, да утратил, так будет и с Гансом, владеющим им теперь. И оттого, что я это знал, я испытывал к Гансу – помимо зависти и насмешки – еще и жалость. Жалость не обжигающую и порывистую, но кроткую, щемящую, какую можно почувствовать к цветам на лугу, обреченным секире косца.
Повторяю: разумеется, те понятия, с помощью которых я пытаюсь описать и истолковать то, что происходило в моей душе, тогда еще не были мне доступны. Я еще не умел анализировать свои состояния, хотя приступил к этому в тот же вечер и продолжаю заниматься этим до сих пор, вплоть до того момента, как сел писать об этом. Многие мои мысли по этому поводу возникли, надо полагать, значительно позднее, например мысль о смерти, которой у меня тогда наверняка не было. Конечно, при виде улыбающегося брата у меня мелькнула мысль о том, что все проходит, но текучесть и смерть в глазах ребенка далеко не одно и то же. Что мое детство не вечно, что лучшее в нем уже навсегда отошло – все это миг пробуждения сказал мне достаточно внятно, как сказал и другое: что и братец мой потеряет все это, что общий закон распространяется и на него. Но о том, что закон этот именуется смертью, у меня понятия еще не было, потому что о смерти я еще ничего не знал и в нее не верил. О бренности же мне было хорошо известно из наблюдений природы и чтения поэзии; то, как падают листья, я наблюдал уже достаточно часто. А что всякое «пробуждение», всякое соприкосновение с действительностью и ее законами означает, среди прочего, и соприкосновение со смертью – этого я еще не знал, хотя уже как-то по-своему, с содроганием души, догадывался.
Когда я начинал эти заметки, то хотел лишь воскресить в воображении тот миг Рождества в отчем доме, о котором я уже рассказал, и сделать это письменно, потому что, когда пишешь, те же самые мысли или события душевной жизни предстают вдруг в ином свете, являют новые стороны, вступают в новые связи. Теперь, однако, я вижу, что то маленькое событие хоть и стоит во всей своей отчетливости перед моим внутренним взором, как если бы случилось вчера, но другим людям, посторонним, крайне трудно дать о нем представление. Даже если бы я был великим писателем, я бы не смог так описать сияние счастья и невинности на личике моего брата, чтобы это описание стало чем-то значительным и для другого, для читателя. Ведь если и есть смысл делиться этим воспоминанием, то вовсе не ради того, чтобы поярче описать сияющее лицо Ганса, а ради того, чтобы сообщить, что было со мной самим. Просияв, Ганс, сам того не ведая и так и не узнав об этом, дал мне повод пережить маленькую драму потрясенного пробуждения. И тут я неожиданно делаю открытие: мой маленький брат Ганс отнюдь не впервые дает мне, сам того не подозревая, повод пережить подобную драму. Чтобы справиться с воспоминанием о рождественском вечере, я не должен рассматривать его изолированно, отдельно, но должен – рискуя и в этом случае говорить больше о себе самом, чем о нем, – дать более развернутую характеристику брата и его жизни. Я не настолько художник, чтобы создать законченный образ брата, к тому же это значило бы, что я самому себе внушил, будто до конца узнал и понял его. Тем не менее я прожил с ним немалую часть жизни, нас сближали и общая кровь, и кое-какие семейные обыкновения, и, хотя окончательной близости между нами так и не возникло, я все же очень любил его. Попытаюсь, таким образом, осветить его жизнь в меру своего понимания очевидца. То будет совсем небольшая часть его биографии, известной мне лишь в общих чертах; тем не менее самое существенное в ней, пожалуй, не ускользнет от моего внимания, поскольку, хотя мы утратили близость, став взрослыми, наши жизненные пути в их решающие моменты странным образом перекрещивались, и как ни отличалась его жизнь от моей, она все же имела значение для меня, а бывало и так, что мне мерещилось в ней лишь слегка измененное зеркальное отражение моей собственной жизни.
Крестили Ганса не под его именем, его настоящее, данное церковью имя было, как и у нашего отца, Иоганнес. Ни одному человеку не пришло бы в голову назвать нашего отца Гансом; Иоганнес – вот было самое подходящее для него имя, излучавшее достоинство и авторитет и в то же время не лишенное обаятельного величия. Иоанном, как-никак, звали и евангелиста-гностика, любимого ученика Иисуса. В этом имени сошлись благородство, нежность, духовность. И, напротив, никому не пришло бы в голову назвать нашего Ганса Иоганнесом. Он был именно Ганс – свой, близкий, милый добряк, в нем ничего не было недоступного и загадочного, как в Иоганнесе, его отце, а потому его всю жизнь и звали просто Гансом, как это водится иной раз среди мирных обывателей. И все-таки он не совсем сросся со своим именем и не настолько лишен был загадки, как это казалось. Тайна жила и в нем, как было в нем и что-то от благородства его отца, что-то рыцарское, донкихотское.
Он был среди нас, братьев и сестер, самым младшим, как младшенького его все любили, опекали, но подчас и задирали; хлопот родителям он не доставлял никаких, разве что в тот единственный раз, когда в четыре года пропал. Жили мы тогда на самой окраине Базеля, там, где за Шпаленрингом и старинной эльзасской железной дорогой город переходит в предместья. И вот однажды малыш отправился гулять один, ушел далеко от дома, пересек железнодорожное полотно и отправился бродить по городским улицам, где его за первым же поворотом ждал неизведанный, интересный мир, в который он устремился с большим любопытством. Где-то он встретил детишек своего возраста, присоединился к ним, стал играть в их игры, научил их, уж верно, своим, потому как всякие игры были его настоящим призванием, неизменным на протяжении всей его жизни. Он понравился своим новым товарищам, соблазнив, по-видимому, и их свободой от заведенного в мире порядка – играли они до темноты, пока за ними не пришли родители и не увели их домой. Ганс отправился с ними, и, поскольку дети не хотели с ним расставаться, а их родителям он тоже приглянулся, его оставили сначала на ужин, а потом и на ночь – он хоть и знал свое имя, но не знал, где живет. Мы провели ту ночь без Ганса, его не было, он исчез, может, упал в Рейн, а может, его украли, во всяком случае, что-то, видно, стряслось, и родители были в панике. Утром любезные хозяева, приютившие Ганса, сообщили о малыше в полицию, и, поскольку там уже знали о его исчезновении, за ним немедленно приехали. Незнакомое семейство отзывалось о мальчике с большой похвалой, особенно о том, как он молится за столом и перед сном. Было похоже, что и сам он неохотно расстается с ними. Мы же очень обрадовались, что он снова с нами, и всем с гордостью рассказывали о том, какой у нас необыкновенный брат и какие с ним приключаются истории.
Лишь годы спустя, когда мы уже переехали в Кальв к деду и Ганс поступил в гимназию, с ним снова возникли проблемы. Эта гимназия, которая немало крови попортила и мне, для него стала просто источником трагедии, хотя и совсем иначе и по другим причинам. Когда я позднее, начав писательскую карьеру, излил по поводу подобных школ накопленную желчь в повести «Под колесами», то материалом мне послужило не только собственное учение, но и мытарства брата. Ганс был полон благих порывов, он был послушен, был готов уважать старших, но Учеником он был неважным, многие предметы давались ему с трудом, а поскольку в нем не было ни простодушной флегмы, с какой иные сносят унижения и наказания, ни одержимости тех, кто ожесточается, то он оказался в категории учеников, которых особенно ненавидят учителя, то есть дурные учителя, которых они постоянно шпыняют, мучают, травят. Дурных учителей в гимназии обнаружилось великое множество, один же из них, настоящий дьявол в неказистой плоти, просто довел Ганса до отчаяния. Среди прочего у этого господина была привычка во время опроса придвигаться к ученику с угрожающим видом вплотную, рычать и рявкать на него как на жертву, а когда напуганный школяр терялся и, естественно, начинал заикаться, учитель начинал нараспев повторять свой вопрос по многу раз, выстукивая ритм железным ключом от дома на голове опрашиваемого. Позднее брат рассказывал мне, что целых два года этот маленький тиран не только мучил его днем, но и преследовал в ночных кошмарах. Нередко Ганс приходил из школы с жуткими головными болями и в смертельном страхе. Свидетелем его самых ужасных школьных мытарств я не был – не жил в это время с родителями, в свою очередь доставляя им немало хлопот.