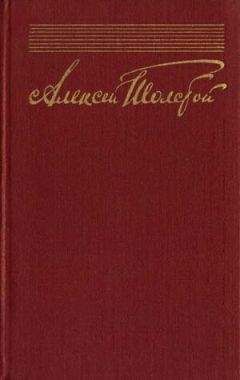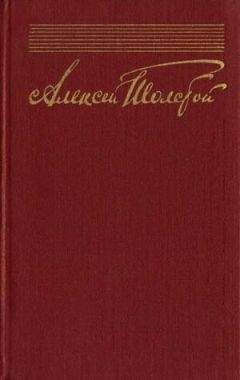Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 2
Жеребца распрягли: сняли хомут и седелку и тронулись… Ближний берег был покатый, на нем, между снегом степи и овражка, открылась талая земля, покрытая мятой травой. Андрей поскользнулся, побежал вперед и увяз.
– Не держит, – сказал он, – ну, да здесь мелко, с богом, – и скоро выбрался на тот берег.
Давыд Давыдыч был тяжелее и увязал глубже; караковый, у него в поводу, подвигался скачками, уходя по живот, на другой берег он вымахнул сразу и, вырвав узду, стал, отряхиваясь.
Они двинулись напрямик, различая впереди колокольню. Между овражками, на горбатых гривках, в хрустящей прошлогодней траве, лежали овальные лужи. Месяц взошел высоко, положил тени от путников и коня и кое-где засверкал в лужах.
Овражков было семь, и средний из них – самый глубокий и опасный. По шуму воды издалека было понятно, что он идет шибко, размывая снег и глину.
Но уже задолго до него пришлось вымокнуть выше пояса в колючей, со снегом смешанной воде. Когда же дошли, наконец, до среднего, Андрей сказал:
– Навряд переберемся, студено очень.
Борода у него тряслась, шурша сосульками по полушубку. Он весь вымок и не знал, куда сунуть окоченевшие пальцы, то елозя ими около обледенелых карманов, то согревая у рта. Давыд Давыдыч глядел на колокольню. Теперь она была видна вся до ограды, залитая лунным светом, И ему не было странно, что самое важное сейчас в жизни – это добраться поскорей до колокольни, а что трудно это и опасно – только хорошо.
– Возьми лошадь, вернись на хутор, я все-таки пойду, – сказал он негромко.
Андрей крякнул от холода и ответил, точно не расслышав:
– Ты за гриву-то ему цепись, если что – конь добрый, вынесет; главная вещь – нам до чистой воды добраться, она у того берега вплоть, видишь…
Действительно, за широкой пятнистой полосой снега виднелась, под глинистым обрывом, свинцовая зыбь воды; лунный свет тронул на ней текучие струи и ребра льдин. Овраг этот пошел первый и гнал воды в пруды по ту сторону села, и опаснейшим в нем местом была снеговая зыбкая каша близ этой водяной полосы… В студеной густой каше из снега не на что упереться, нет дна, нельзя ни плыть, ни ползти.
Давыд Давыдыч резко дернул за повод присмиревшего жеребца и пошел по желтым пятнам снега… Андрей зашагал рядом, потом, повторив: «Смотри, коня нипочем не бросай!» – побежал вперед на цыпочках и вдруг провалился по пояс.
– Дна нет, – крикнул он, побарахтался, на животе прополз еще, поднялся, шагнул и ушел по грудь, неподалеку от воды. – Шабаш, – сказал Андрей и, раскинув руки, перестал двигаться; над снегом торчала лишь голова его в шапке.
– Держись, голубчик, пожалуйста, держись, сейчас я, сейчас, – еле выговаривая, забормотал Давыд Давыдыч, бросил повод и ползком задвигался к торчащей голове. Широко растопыривая ноги, запуская руки в налитый водою снег, наминал он его под себя с боков и, вертясь и упираясь, продвигался. Холода же больше не чувствовал; лицо и охваченный полушубком корпус горели; только ресницы смерзались, мешая глядеть; Андрей был уже совсем близко; повернув задранную к месяцу голову, он повел белками и принялся открывать и закрывать рот… Снег совсем стал жидким. Давыд Давыдыч запустил под себя руки и, застонав от боли, расстегнул пряжки на полушубке, чтобы освободиться. Но сзади в это время громко заржал караковый, завозился и плюхнулся несколько раз.
– Узда, узда, – выговорил, наконец, Андрей.
Завалишин оглянулся. Жеребец, очевидно зацепив копытом повод, глубоко опустил морду, выпучил блестящий глаз и задыхался.
– Узду, узду скинь, – проговорил Андрей.
Давыд Давыдыч понял, что не сможет этого сделать и что не нужно это – пусть погибает караковый, но все же, приподнявшись, дернулся, дополз, схватил узду и сорвал; караковый вскинул морду, фыркнул и, поддав задом, сигнул; передние его копыта упали на полу распахнутой шубы, и Давыд Давыдыч, хватаясь окоченевшими пальцами, ушел с головой под снег, в талую воду.
Может быть, прошла минута или мгновение, пока он опускался в зеленовато-черную глубину, сдавившую дыхание, с незабываемым запахом снеговой влаги. Но времени будто не стало. Он подумал: «Конец!» Потом: «Ну и слава богу!» И, отрешаясь от жизни, тотчас увидел, спокойно и ясно, все свои дни и себя – и мальчиком, и юношей, и взрослым. Все это появилось перед сомкнутыми его глазами одновременно и в странной перспективе, словно он – смотрящий – был не в стороне и не в центре, а вокруг всего. Будто он стал так велик и необъятен, что включил в себя и землю, и солнце, и звезды, и все… И спокойно знал, что злое, что доброе, когда он был дурным, когда хорошим, а дурным он увидел себя, живущим без любви, – слепым. И тотчас в этой вселенной пронеслась строфа глупых стихов, сочиненных им на дереве… И за ней, быстрей, чем молния, возник ровный свет, он заслонил, как будто сжег, все призраки воспоминаний и был живой, и требовательный, и радостный… Давыд Давыдыч понял, что жив и хочет жить. Сердце глухо боролось. Вода проникала в рот и ноздри. Он рванулся; полушубок, как шкура, соскользнул с плеч, и Давыд Давыдыч, ударив ногами в ледяное дно, появился на поверхности, жадно дыша колким, живым холодом.
Караковый лежал впереди, и над снегом торчала его голова и грива, в которую вцепилась рука Андрея.
И конь и мужик медленно отделялись от снега, поворачивались в чистой воде, быстрый поток подхватывал их, подхватил, закружил и понес вдоль крутого берега. И за ними отделился большой остров снега, открыв Давыда Давыдыча, который, освободясь от каши, тоже поплыл, сносимый течением, и долго хватался и царапался о глиняную кручу. Наконец на низком месте он уцепился за чилиговый куст, грудью лег на берег, потом подтянулся, вылез и, шатаясь, пошел.
Месяц, чистый и острый, стоял над головой. В овальных лужах, в каждой, отражалось все небо со звездами и месяцем; проходя мимо, Давыд Давыдыч раздроблял сапогом тонкие зеркала этих луж. Потом он с трудом повернулся и стал вглядываться. Невдалеке у берега прибились Андрей и караковый.
Через силу стащил Давыд Давыдыч сапоги и побежал к селу. Остальные овражки были по пояс. На краю последнего, у мирского амбара, в лунном свете, сидел неподвижно седой караульщик.
– За народом беги, тонут! – сказал Завалишин, тыча пальцем в сторону, откуда пришел, и когда караульщик, поняв наконец, заторопился, он двинулся дальше, к белой колокольне, за которой между двух лип стоял Оленькин дом.
5
Оленька сидела на покрытом кошмою сундуке, обхватив худыми руками голову. Синее полотняное платье на ней измялось; на левой ноге спущен черный чулок, на кончике висела туфля.
Свеча на ломберном столе, между двух запертых на ставни окон, отражалась в пыльном зеркале; на его поверхности проведено много запутанных линий: должно быть, смотрелась в него, думая о другом, и водила пальцем. Комната была низкая, штукатуренная, мебель в беспорядке. У глухой стены стояла двухспальная помятая кровать.
Закрыв глаза, Оленька устало покачивалась, боясь взглянуть даже на эту неубранную постель. Недавно кончился припадок – невыносимый кошмар, изнурявший ее вот уже год. Оленька отдыхала; в больном ее мозгу не было мыслей. Согнутое после борьбы, измученное тело покачивалось, как маятник, один в тишине тикавший, взад и вперед скользя между цветков на обоях. Звук часов был единственным звуком в этой комнате; молчал даже сверчок – запечный житель, добрый собеседник в долгие вечера. На огонь налетела муха, – наконец и она, опалив крылья, покружилась и затихла.
Один раз только Оленька остановилась и так вздрогнула, что слетела туфля и руки, охватившие голову, упали на колени. Но это уже вышло невольно, как запоздалая молния после грозы…
На памяти ее, на всем сознании, лежал сейчас тяжелый туман, и только едва живая, как искра в этой темноте, надежда на ответное письмо, на то, что, может быть, еще увидит она того, кого любила всегда, и заставляла ее покачиваться, цепляясь за невыносимую больше жизнь.
В сенях резко затрещали ступени, кто-то вошел и тяжело упал на доски. Медленно похолодела Оленька, – словно игла, прошел через нее страх, она широко раскрыла огромные глаза, оттененные пепельными кругами, сорвалась с сундука, схватила свечу и выбежала в сени, придержавшись за косяк.
В дощатых сенях ничком лежал Давыд Давыдыч, подвернув под себя руки. Пиджак его обледенел и торчал коробом; пятки, в порванных чулках, были окровавлены.
Оленька положила руку на горло и, держа в другой танцующую свечу, закричала. Из кухонной двери, оправляя платок, боком выскочила стряпуха. Оленька присела над телом и обеими руками схватила голову Давыда Давыдыча, стараясь приподнять и взглянуть ему в глаза.
– Пришел, вспомнил, – сказала Оленька, оборотясь, – дышит, дышит…
– Батюшки, к соседям побегу, одним разве втащить! – завопила кухарка и кинулась на улицу.
Давыд Давыдыч начал стонать и силился подняться сам. Оленька помогала ему, ухватясь за плечи. Наконец он выговорил: