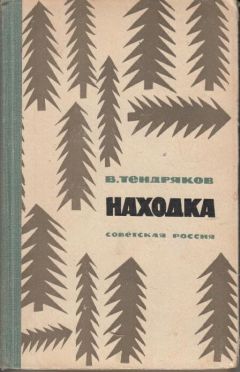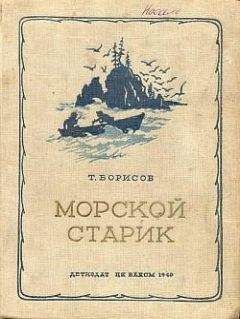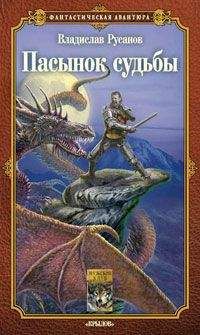Владимир Тендряков - Находка
Стучат ходики, и лениво, лениво волочится бесконечная ночь.
«Надо бы разрешить, черт с ней, пусть бы примостилась тут у порога, а завтра — катись себе, объявляйся. А самому тащить эту дурочку за шиворот — была охота. Спросят — все скажу, как было, не утаю, а хлопотать, чтобы прижгли, нет уж, не стоит того… А ведь выслеживал, по деревням колесил, берег обнюхивал. Тоже умен на поверку-то».
Хотелось встать, накинуть пальто, бежать по ночи к черту на кулички: «Опомнись, непутевая!»
Он не мог уснуть ни на минуту. Едва только слезливый рассвет просочился сквозь окно, осторожно, чтобы не разбудить жену, слез с постели, захватил одежду, оделся, достал из шкафчика горбушку хлеба, сунул в карман.
Поговорит по-человечески, образумит. Только б не опоздать.
По дороге его нагнал ухарски расхлябанный грузовичок. Трофим проголосовал и проехал по большаку до поворота на Копновку, а там — рукой подать.
Деревня Копновка встретила его дремотной тишиной начинавшегося осеннего дня. Стыли в промозглом воздухе голые ветви берез, раскачивающие на себе почерневшие скворечники, зеленели мхом ветхие крыши. Женщина, выскочившая из дому налегке — только голова туго обмотана большим платком, — гнула к бревенчатому срубу колодца спесивую шею журавля.
И по этой неразбуженной тишине Трофим понял — в деревне ничего не случилось. Клавдия жива. Стало стыдно — дурак он, однако, ночь не спал, сорвался ни свет ни заря, гнал столько километров, а для чего?.. Жива, здорова, поди, и в мыслях-то не было…
Но уходить ни с чем, когда уж прискакал сюда, глупо. Увидится, скажет по-свойски, чтобы не вздумала учудить, хоть этим себе наперед покой устроит.
— Эй, кума! Где живет Ечеина Клашка?
— Ты к какой? Котора померла?
— Померла?!
— У нас две их было — мать и дочь, обе Клавдии. Мать-то недавно, царствие ей небесное…
— Дочь-то жива ли?
— Плачет все, сохнет по матери-то. Никак не придет в себя, сердешная… Да вон тем порядком пойдешь, так направо четвертый дом, сразу за Леонтием Елькиным, у которого возля калитки старый жернов лежит. Найдешь ли?
И женщина долго смотрела вслед, должно быть, гадала: для чего понадобилась Клашка Ечеина этому самостоятельного вида мужику, которого, пожалуй, она примечала возле их деревни и раньше?
Изба была старая, громадная. Из крапивных задворок выползала она прямо на дорогу, стояла голая, открытая, ничем не огороженная — корабль из массивных щелястых бревен, выброшенный на сушу. Сходство с допотопным Ноевым ковчегом придавало и то, что длинная крыша была наполовину разобрана, на задах торчали, как ветхие снасти, полусгнившие стропила.
В лицо изба была кривой — все окна, кроме одного, заколочены. И это единственное целое окно глядело на Трофима с сиротливым старческим упреком: «Сколько вырастила людей — не одна сотня рожалась, умирала под моей крышей, теперь вот скриплю, тужусь — тяжело, но уж недолго скрипеть».
Трофим подумал: «И со спокойной душой в одиночку в этакой куче бревен запоешь лазаря».
Он поднялся на шаткое крыльцо:
— Есть кто живой?
Никто не ответил.
Трофим толкнул одну дверь в темные сенцы, толкнул вторую — в избу…
Сумеречная комнатушка с тяжелой печью. На полу разводы воды, стоит ведро посередке. С грязной тряпкой в руках, босая, с обвисшим подолом — она, лицо неживое, серое, глаза, как и тогда, остекленевшие.
— Здравствуй…— сумрачно поприветствовал Трофим, с неприязнью оглядывая мокрый пол.
Она пошевелилась, опустила в ведро тряпку, вытерла о подол руки, спросила, казалось, спокойно:
— Собираться мне?
— Куда?
— Как — куда?
— Поспеешь…— и взъелся: — Да что я тебе, милиция, что ли? Думалось, в петлю лезет, а она, нате вам, чистоту наводит. Вовремя.
— Надо же что-то делать, чтоб не думалось… Без дела-то рехнешься… Так я сейчас соберусь.
— Хороша и так, не женихаться к тебе пришел.
Она с тупым равнодушием стояла посреди недомытой избы глядела своим странным, остановившимся взглядом, ждала.
Трофим не знал теперь, о чем говорить с ней. Уже не скажешь, что хотел сказать: «Опомнись, непутевая!» Ни вешаться, ни бросаться в озеро девка не собиралась. Он чувствовал себя обманутым, особенно злило, что моет пол, наводит чистоту — значит, рассчитывает здесь жить.
«Теперь вижу, какая змея. Вижу! А вчера-то пожалел было…»
Она молчала, не двигалась. По-прежнему беззащитное, белое горло, пустые глаза, сама в обвисшей юбке, с опущенными руками, открытая, покорная — вот я, без хитрости, ругай, казни — стерплю. И эта покорность взорвала Трофима:
— Прикидываешься овечкой-ярочкой, горлышко подставляешь — режьте, мол, добрые люди! Расчетец немудреный — кому охота на живого человека нож подымать. «Кабы кто убил меня…» Ха! Кабы кто… Уж коль жить невтерпеж, чего просить. Найди гвоздь потолще и веревку покрепче…
И она вдруг закрыла мокрыми руками лицо, колени подогнулись, рухнула на пол, сшибла ведро, потекла по полу серая жижа.
— Ну вот…— растерялся Трофим.
Она лежала, уткнувшись лицом в недомытый пол, сухие космы длинных нечесаных волос мокли в разлитой луже, узкая спина с выпирающими косточками содрогалась под тонкой кофтой.
Трофим глядел на нее и молчал: бежал же с добром, спасти хотел, а вместо доброго слова — нож под ребро. Разве не распроклятый…
— Эй, девка… Да хватит, хватит, нечего зря-то…
Она беззвучно рыдала.
— Да, право… Ну, сорвалось с языка. Не хотел обидеть… Встань, давай встань…
Дотронулся до плеча — головы не подняла, вздрогнула, поежилась. И он распрямился, затоптался, кося на нее глаза, не зная, что делать.
— Встань, — попросил он,-поговорим по душам…
Плечи ее перестали сотрясаться, но продолжала лежать, как и лежала, концы сухих волос мокли в грязной луже на полу. Он неуклюже присел, подобрал волосы, с робкой неловкостью положил ей на спину.
— Слышь… Я зла тебе не хочу… Я и бежал-то сейчас — за тебя боялся. Слышишь или нет? Боялся же, сердце кровью обливалось..
Она зашевелилась, оперлась на ослабевшие руки, приподнялась, села. Заляпанная кофта, грязное лицо, сбившаяся юбка открывает острое голое колено, дрожащими пальцами провела по волосам. И только сейчас он заметил под грязными разводами на лице нездоровую прозрачность кожи, удручающую синеву под глазами, понял, что она больна, и сжалось сердце.
Она со всхлипом, как ребенок после плача, вздохнула, виновато, с какой-то усталой простотой сказала:
— Боязно… Хотела, да боязно…
— Ты о чем?
— О том, что ты говорил.
— Брось это!..
— Чего зря на людей-то надеяться, самой надо…
— Брось! Я же вгорячах. Дернуло за язык. Забудь!
От жалости, от страха — чего доброго, надоумил — стал смелее, взяв за плечи, помог подняться, подвел к лавке.
— Поговорим по душам.
Она сидела чуть горбатя спину, свесив руки вдоль тела, глядела перед собой, мимо валявшегося на полу ведра.
— Да очнись ты! По душам хочу…
Не пошевелилась, не отвела взгляда от невидимой точки, спросила, словно обращаясь к печке:
— Со мной? По душам?
— А то на твой угол помолиться из городу прибежал.
— У меня, поди, души-то нету… Выело.
— Ду-ра!
— И что тебе до моей души? Ведь я паскудная. Что тебе до меня?
— Что?! — Он встал перед ней, большой, едва ли не достающий шапкой до темной низкой потолочной матицы, жестко шуршащий покоробившимся плащом, с сухо горящими глазами, протянул громадные раздавленные веслами ладони.Что?.. Ты видишь эти руки? Нес ими твоего ребенка. Спасти хотел.
В это-то веришь, что не для корысти, не для того, чтоб славили. Чуть не сдох в лесу-то, а нес, думалось — спасу, к себе возьму. Веришь в это?.. А почему не веришь, что тебя спасти хочу? Тоже живой человек.
И она, вдавив грязный кулак в зубы, снова тихо заплакала.
— Сведи ты меня сейчас. Сведи, прошу. Легче будет…
— Пойдешь сама, держать не буду. Сам не поведу, да и не посоветую.
— Почему? Стою ж того.
— Каков расчет вести тебя? Ну, накажут, ну, срок дадут, упрячут тебя вместе с воровками да гулящими. Того и гляди, их науку переймешь. Та ли сейчас тебе нужна наука? Не-ет, коль хочешь того — иди, объявляйся. Я на себя не вoзъму дoнocить.
Она плакала, размазывая кулаками грязь.
— Все одно, жизнь моя кончена.
— Дура ты, дура. Кончена!.. Тебе сколько лет-то?
— Девятнадцать.
— Дура, ты, дура… Ты еще четырежды столько проживешь. Еще человеком станешь, замуж выйдешь, детей нарожаешь… Ну, ну, не плачь, это хорошо в молодости-то так ожечься… Помнить будешь, как самой больно было, а значит, и других поймешь — у кого что болит. У меня жизнь тоже косо вышла… Я вот тебе помогу, может, и ты, когда кому поможешь — не отплюнешься, не открестишься…
Она плакала, а он стоял над ней и говорил грубо и властно, пряча нежность и жалость. Она растирала кулаком слезы, убито смотрела в сторону, слушала.