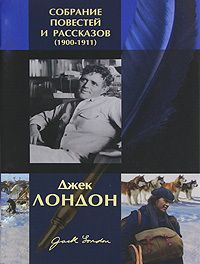Джек Лондон - Зов предков
Собственные страдания делали этих трех людей равнодушными к страданиям собак. Хэл считал, что закалка — вещь необходимая, но эту свою теорию применял больше к другим. Сперва он пробовал проповедовать ее сестре и зятю, но, потерпев неудачу, стал дубинкой вколачивать ее собакам. К тому времени, как они дошли до Пяти Пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха индианка согласилась дать им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим ножом украшал пояс Хэла. Шкура эта, содранная полгода назад с павшей от голода лошади какого-то скотовода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза она стала подобна листовому железу, а когда собака с трудом проглатывала кусок, он и после того, как оттаял, был совсем непитателен и только раздражал желудок.
Терпя все это, Бэк, словно в каком-то тяжелом кошмаре, плелся во главе упряжки, тянул нарты, насколько хватало сил, а когда силы изменяли, падал и лежал, пока его не поднимали на ноги дубинкой или бичом. Его прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и блеск. Она свалялась и была грязна, и во многих местах, где дубинка Хэла разрезала кожу, на ней запеклась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узловатые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра и кости. Это могло надорвать любое сердце, но сердце у Бэка было железное, как давно доказал человек в красном свитере.
Не в лучшем состоянии, чем Бэк, были и остальные собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Их осталось теперь семь, включая и Бэка. Они были так измучены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и дубинки. Боль от побоев ощущалась ими как-то тупо, и они все видели и слышали словно издалека. Это были уже полумертвые существа, попросту мешки с костями, в которых жизнь едва теплилась. На остановках они раньше, чем их распрягут, падали без сил тут же, у дороги; и казалось, что последняя искорка жизни в них угасла. Когда же на них обрушивались удары дубинки или бича, эта искра чуть-чуть разгоралась, и они, с трудом поднявшись, брели дальше.
Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог уже встать. Револьвера у Хэла больше не было, и он прикончил Билли ударом топора по голове, затем снял с трупа упряжь и оттащил его в сторону от дороги. Бэк все это видел, и другие собаки видели, и все они понимали, что то же самое очень скоро будет с ними. На другой день околела "Куна, и осталось их теперь только пятеро: Джо, такой замученный, что не мог уже даже огрызаться, Пайк, хромающий калека, который утратил всю свою хитрость и плутоватость, одноглазый Соллекс, все еще преданный делу и затосковавший оттого, что у него уже не хватало сил тащить нарты. Тик, который никогда еще не ходил так далеко, как этой зимой, и которого били чаще и сильнее, потому что он был самый неопытный из всех, и Бэк, все еще занимавший место вожака, но уже неспособный поддерживать дисциплину и не пытавшийся даже это делать. От слабости он брел, как слепой, и, различая все словно сквозь туман, не сбивался с тропы только потому, что ноги привычно нащупывали дорогу.
Стояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не замечали ее. Что ни день, солнце вставало раньше и позже уходило на покой. В три часа уже светало, а сумерки наступали только в девять часов вечера. И весь долгий день ослепительно сияло солнце. Призрачное безмолвие зимы сменилось весенним шумом пробуждавшейся жизни. Заговорила вся земля, полная радости возрождения; все, что в долгие месяцы морозов было недвижимо, как мертвое, теперь ожило и пришло в движение. В соснах поднимался сок. На ивах и осинах распускались почки. Кусты одевались свежей зеленью. По ночам уже трещали сверчки, а днем копошилось, греясь на солнышке, все, что ползает и бегает по земле. В лесах перекликались куропатки, стучали дятлы, болтали белки, заливались певчие птицы, а высоко в небе кричали летевшие косяками с юга дикие гуси, рассекая крыльями воздух.
С каждого холмика бежала вода, звенела в воздухе музыка невидимых родников. Все кругом оттаивало, шумело, качалось под весенним ветром, спешило жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыньи, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду. А среди всего этого разлива весны, бурного биения и трепета просыпающейся жизни, под слепящим солнцем и лаской вздыхающего ветра, брели, словно навстречу смерти, двое мужчин, женщина и собаки.
Собаки падали на каждом шагу. Мерседес плакала и не слезала с нарт, Хэл ругался в бессильной ярости, в слезящихся глазах Чарльза застыла печаль.
Так дошли они до стоянки Джона Торнтона у устья Белой реки. Как только остановили нарты, собаки свалились, как мертвые. Мерседес, утирая слезы, смотрела на Джона Торнтона. Чарльз присел на бревно отдохнуть. Садился он с трудом, очень медленно — тело у него словно одеревенело.
Разговор начал Хэл. Джон Торнтон отделывал топорище, выстроганное им из березового полена. Он слушал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени вставлял односложную реплику или давал столь же лаконичный совет — только тогда, когда его спрашивали: он знал эту породу людей и не сомневался, что советы его не будут выполнены.
— Там, наверху, нам тоже говорили, что дорога уже ненадежна, и советовали не идти дальше, — сказал Хэл в ответ на предостережение Торнтона, что идти сейчас по льду рискованно. — Уверяли, что нам уже не добраться до Белой реки, — а вот добрались же!
Последние слова сказаны были с иронией и победоносной усмешкой.
— И правильно вам советовали, — заметил Джон Торнтон. — Лед может тронуться с минуты на минуту. Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку — дуракам, известно, везет. А я вам прямо говорю: я не стал бы рисковать жизнью и не двинулся бы по этому льду даже за все золото Аляски.
— Ну еще бы, ведь вы не дурак, — бросил Хэл. — А мы все-таки пойдем дальше, к Доусону. — Он взмахнул бичом. — Вставай, Бэк! Ну! Вставай, тебе говорят! Марш вперед!
Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал: бесполезно удерживать сумасбродов от сумасбродств. И в конце концов в мире ничего не изменится, если станет двумя-тремя дураками меньше.
Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они давно уже дошли до такого состояния, что поднять их можно было только побоями. Бич засвистал тут и там, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон сжал зубы. Первым с трудом поднялся Соллекс. За ним Тик, а за Тиком, визжа от боли, Джо. Пайк делал мучительные усилия встать. Приподнявшись на передних лапах, он упал раз, упал другой и только в третий ему наконец удалось встать. А Бэк даже и не пытался. Он лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хэл продолжал хлестать Бэка. Торнтон встал, в нерешимости заходил взад и вперед.
В первый раз Бэк отказывался повиноваться, и этого было достаточно, чтобы привести Хэла в ярость. Он бросил бич и схватил дубинку. Но и град новых, еще более тяжелых ударов не поднял Бэка на ноги. Он, как и другие собаки, мог бы еще через силу встать, но в отличие от них сознательно не хотел подниматься. У него было смутное предчувствие надвигающейся гибели. Это чувство обреченности родилось еще тогда, когда он тащил нарты на берег, и с тех пор не оставляло Бэка. Целый день он ощущал под ногами тонкий и уже хрупкий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать. Он так исстрадался и до того дошел, что почти не чувствовал боли от ударов. А они продолжали сыпаться, и последняя искра жизни уже угасала в нем. Бэк умирал. Он чувствовал какое-то странное оцепенение во всем теле. Ощущение боли исчезло, он только смутно сознавал, что его бьют, и словно издалека слышал удары дубины по телу. Но, казалось, это тело не его и все это происходит где-то вдалеке.
И тут совершенно неожиданно Джон Торнтон с каким-то нечленораздельным криком, похожим больше на крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хэл повалился навзничь, словно его придавило подрубленное дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз смотрел на эту сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, утирая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело у него словно одеревенело.
Джон Торнтон стоял над Бэком, стараясь овладеть собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить.
— Если ты еще раз ударишь эту собаку, я убью тебя! — сказал он наконец, задыхаясь.
— Собака моя, — возразил Хэл, вставая и вытирая кровь с губ. — Убирайся, иначе я уложу тебя на месте. Мы идем в Доусон!
Но Торнтон стоял между ним и Бэком и вовсе не обнаруживал намерения «убраться». Хэл выхватил изза пояса свой длинный, охотничий нож. Мерседес вопила, плакала, хохотала, словом, была в настоящей истерике. Торнтон ударил Хэла топорищем по пальцам и вышиб у него нож. Хэл попытался поднять нож с земли, но получил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся, сам поднял нож и разрезал на Бэке постромки.