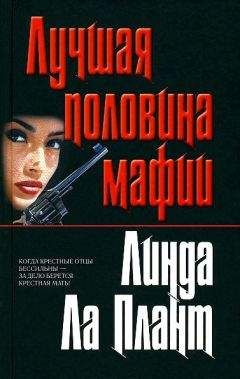Хуан Рульфо - Равнина в огне
Да и как было не радоваться. По Великой равнине снова скакала боевая наша конница, совсем как когда-то. Совсем как вначале, в добрые времена, когда мы поднялись с нашей земли, словно зрелые початки маиса, с которых ветер сорвал пожухлые рыльца и засохшие листья. Вся равнина трепетала в страхе перед нами! Да, было такое времечко. И верилось, оно возвращается!
Из Сан-Буэнавентуры мы двинулись на Сан-Педро, сожгли его и повернули на Петакаль. Наступила пора уборки маиса, стебли стояли уже сухие, и когда налетал ветер — он любит в это время погулять над равнинным простором, — они даже ломались от сухости. Поднесешь огоньку к краю поля — и пошло полыхать; так и скачет огонь по заповедной помещичьей земле, — поглядеть любо-дорого! Вся Равнина — сплошной костер, а сверху над ней волнами колыхается дым. Пахучий, медовый — потому что пожары перекинулись уже и на камышовые заросли, и на сахарный тростник.
А из дыма выскакиваем мы, чумазые, как черти, забираем скот и гоним его со всех сторон в одно место, чтобы без помехи забить и содрать шкуры. Теперь мы этим промышляли — шкурами.
Педро Самора сказал: «Нашей революции нужны деньги. И мы возьмем эти деньги у богачей. Мы кровь проливаем, пускай же оружие и все прочее, что необходимо для нашей с вами революции, оплачивают богачи. Не важно, что мы покамест сражаемся просто так, ни под каким знаменем. У нас сейчас одна задача: себя не жалеть, но выручить побольше денег. Пусть тогда приходят федералисты! Они увидят, какая у нас сила!» Так он нам говорил.
Но когда пришли федералисты, они опять взяли над нами верх: они снова побеждали и убивали нас, хотя и не с прежней легкостью. Теперь издали было видно, что они нас боятся.
Но и мы их боялись. Бывало, донесет ветерок щелканье ихних затворов или заслышишь, сидя в засаде, цокот кавалерийских подков по каменистой дороге, все ближе, ближе — так и провалится душа в пятки.
И у нас, у каждого, это было написано на лице. Проезжают они, а нам так и чудится: косят в нашу сторону глазами, будто хотят сказать: «Мы знаем, что вы тут сидите, только до поры до времени виду не подаем».
Похоже, что так оно и бывало, потому что едут они, едут, и вдруг ни с того ни с сего — прыг с коней, поставят их кругом, спрячутся, как за бруствером, и отстреливаются, пока выручка не подоспеет. А выручка какая? Зайдут нам с тыла, окружат незаметно и — готово: перебьют, как кур в курятнике. Мы скоро поняли, что хоть самих-то нас много, да не на много времени хватит нашего множества.
Потому что теперь приходилось иметь дело не с войсками генерала Урбано — их послали против нас в самом начале, и они разбегались от одного нашего крика, от одного вида наших взлетающих шляп; да чего и было ждать от новобранцев, насильно оторванных от своих ранчо и против воли посланных воевать с нами; они нападали, лишь когда видели, что нас во много раз меньше, чем их. Те времена давно кончились. На смену новобранцам Урбано пришли обстрелянные солдаты. Но хуже всех были теперешние. Командовал ими некий Олачёа. Народ у него был стойкий, рисковый: частью горцы из далекого Теокальтиче, частью длинноволосые индейцы тепеуаны, они, если надо, могут не есть по нескольку дней, могут сколько угодно часов просидеть не шелохнувшись в засаде — уставятся немигающими глазами в одну точку и ждут; попробуй высунься из укрытия: один меткий выстрел — и нет человека. Карабины у них были крупнокалиберные, с длинными пулями — для такой перебить человеку хребет все равно, что продырявить трухлявый сучок.
Что и говорить — устраивать засады против федералистов было куда трудней, чем нападать на одинокие поместья. И мы стали действовать вразброс, мелкими отрядами, атаковали врага неожиданно то здесь, то там. Никогда еще мы не причиняли неприятелю большого урона. Налетим врасплох, да и были таковы, вроде одичавших мулов, они ведь тоже: лягнут на бегу копытами — и дальше.
Скажем, часть людей разоряет и поджигает богатые ранчо на склоне вулкана в Хасмине, а тем временем в другом месте другой отряд наносит внезапный удар по войскам. А чтобы думали, много нас, привяжем каждый к веревке ветку акации, чтоб дорогу мела, и летим в туче пыли, с гиком, со свистом, с воплями.
Когда мы нападали на поместья, федералисты не сразу в дело вмешивались, выжидали. Но все-таки гонялись за нами, метались по Равнине из конца в конец, как ошалелые, и все без толку: придут, а нас и след простыл. Иллюминацию мы в горах устраивали такую — отсюда бывало видно. Смотришь на пожарище и думаешь: никак лесосеки горят! День и ночь полыхали усадьбы и ранчо, а случалось, и большие селения: Тусамильпа, Сопотитлан. Да, отсюда видно бывало. Ночью светло, как днем. Солдаты Олачеа заметят огонь и мчатся во весь опор к месту происшествия, но только доскачут — в другом конце занялось, горит Тотолимиспа, как раз в той стороне, откуда они прискакали.
Глядишь — и сердце не нарадуется. Солдаты покрутятся, покрутятся, туда-сюда, да и уберутся восвояси. А мы выезжаем из непролазных зарослей мескита и смотрим, как они, несолоно хлебавши, тянутся по пустынной дороге, и рады бы померяться силой с врагом — да врага-то перед ними никакого нет, — а вокруг, огороженная со всех сторон горами, раскинулась подковой во всю свою ширь Равнина, и военный отряд тонет в ней, как в бездонной морской глуби.
Мы сожгли дотла Куастекомате и устроили там игру в «бой быков». Педро Самора любил эту забаву до страсти.
Федералисты в это время гнали коней на Аутлан: рассчитывали застигнуть бандитов, нас то есть, прямо в логове, в местечке под названием Ла-Пурификасьон. А мы оттуда как раз только что снялись. Они махнули туда, а в Куастекомате пришли на их место мы.
Тут славный можно было устроить «бой быков». Федералисты впопыхах позабыли в Куастекомате восемь своих солдат, не считая старшего и младшего интендантов.
Арену мы соорудили честь честью, поставили круговую ограду, вроде загона для коз, сами сели на перекладинах, чтобы нашим тореро, чего доброго, не улизнуть. А то погонится Педро Самора за ним со стилетом, чтобы проткнуть, как бык рогами, а тореро наш — наутек, такого драпу задаст, только держись.
Но солдатиков было всего-навсего восемь штук, и хватило их на один только вечер. Интендантов Педро оставил на завтра. Ох, и задал же ему работенку второй интендант, капрал. Тощий был, долговязый, жердина жердиной, попробуй в него попади, подастся чуток в сторону, стилет — мимо. Зато старший не успел в круг войти — и готов. Да и где ему было, такому неповоротливому — приземистый он, плотный. Хоть бы раз увернулся, нет, не сумел, как вышел, так встал на месте и стоит, будто только и ждет, чтобы в него клинок всадили. И умер тихо, без крика. А вот капрал — тот да, задал работенки.
Педро Самора велел при выходе в круг выдать каждому по чепраку — для защиты. Но одному только капралу послужило оно в пользу. Здорово он им управлялся, — а это надо уметь, чепрак-то тяжелый, толстый. Взял он его в руки и стал отбивать удары. Педро вокруг прыгает, клинок нацеливает, а капрал мах чепраком, стилет и скользнет в сторону. Умаялся наш Педро, кругом да около бегая, а достать ни в какую, так только, оцарапал слегка. Вот и не хватило у него выдержки. Бык никогда с тыла не подкрадется или со стороны, бросается на врага грудью, спереди. А Педро вдруг забежал сбоку, левой рукой за чепрак, а правой — стилет под ребра. Капрал сгоряча боли, верно, не почувствовал, невдомек, что крышка ему, знай чепраком машет, вверх-вниз, вверх-вниз, словно осиный рой от себя отгоняет. Потом видит, течет у него по боку, будто красной лентой всего опоясало. Остановился, на лице — страх, пальцами рану зажимает. Да где там, ручьем из нее бежит, и чем оно алей, тем сам он белей становится. Упал посредине круга и смотрит на нас, каждому в глаза. Полежал, полежал, а потом взяли мы его и повесили, а то когда бы еще он умер.
С тех пор Педро Самора частенько играл в «бой быков», не упускал ни одного случая.
В то время у Педро в отряде все, начиная с него самого, «понизовые» были, с Равнины. Потом прибилось к нам немало и пришлого люда: белокурые, с молочно-белыми лицами, длинноногие индейцы из Сакоалько. И горцы с «холодной земли», — кажется, из Масамитлы. Какая бы ни была жара, они кутались в свои сарапе,[7] словно идет дождь со снегом.
Зато от жары у них пропал аппетит, и Педро послал их высоко в горы, охранять проход между вулканами, там кругом один песок да голые выветренные скалы. А белые индейцы прямо-таки влюбились в Педро Самору, ни на шаг от него, скажи он слово — готовы в огонь и в воду. В бою держались всегда рядом с ним, прикрывали его: где он, там и они. До того доходило, что, бывало, вступим в город или деревню, так они выкрадут девушек, которые покрасивее, и чтобы себе взять — ни-ни: отдадут ему.
Навсегда запомнилось мне это время. Пробираемся мы ночью по горной тропе, едем осторожно, тихо — ни стука, ни бряка, а сами чуть с седел не падаем — сон разбирает; но привала сделать нельзя — по пятам за нами идут федералисты. И вот как сейчас вижу Педро Самору, проезжает он в малиновом своем плаще вдоль колонны, смотрит, чтобы никто не отстал.