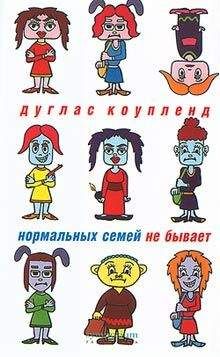Джон Фаулз - Волхв
Скоро должно было выясниться, вступит ли болезнь во вторичную стадию. Чтобы скрасить тяготы ожидания, я прочесывал остров вдоль и поперек. Каждый день плавал, гулял. Становилось все жарче, после обеда, в самый зной, учеников отправляли на тихий час. А я уходил в сосны, спеша перевалить водораздел и очутиться в южной части острова, подальше от школы и деревни. Тут не было ни души; три домика, спрятавшихся в одной из бухточек, часовенки, затерянные в зелени сосняка и посещаемые только в дни святых-покропителей, и неприметная вилла, на которой никто не жил. А вокруг — горделивая тишь, потаенность чистого холста, предчувствие легенды. Казалось, граница света и тени поделила остров надвое; и расписание уроков, позволявшее уходить надолго лишь по воскресеньям или с утра пораньше (занятия начинались в половине восьмого), бесило, как короткий поводок.
Я не думал о будущем. Я был уверен, что лечение не поможет, что бы ни говорил врач. Линия судьбы просматривалась ясно: под уклон, на самое дно.
И тут начались чудеса.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В своем блаженстве злодеи не ограничились только одним святотатством; раздев девочку, они укладывают ее на стол лицом вниз, зажигают свечи, ставят статуэтку нашего Спасителя ей на поясницу и справляют у нее на ягодицах то из почитаемых нами Святых Таинств, которое всегда приводило меня в трепет.
Де Сад. «Несчастная судьба добродетели»10
В конце мая, воскресным днем, голубым, как изнанка птичьего крыла, я взбирался по козьим тропам на водораздел, противоположный склон которого до самого берега, на протяжении двух миль, устилала зеленая пена сосновых вершин. На западе, за шелковым ковром моря, высилась тенистая горная стена материка, эхом отбрасывавшая на пять-шесть десятков миль, к южному горизонту, звон огромного колокола высот. Лазурный, изумительно чистый мир; глядя на ландшафт, что открывался с вершины, я, как всегда, позабыл о своих огорчениях. Пошел по гребню холма на запад, вдоль диаметра двух глубоких перспектив, северной и южной. Вверх по стволам сосен, как ожившие изумрудные ожерелья, скользили ящерицы. Тимьян, розмарин, разнотравье; кустарники с цветами, похожими на одуванчики, тонули в лучистой синеве неба.
Через некоторое время я достиг места, где с южной стороны поверхность шла под уклон, чтобы круто оборваться к морю. Здесь я всегда усаживался на бровку и курил, блуждая взглядом по гигантским плоскостям водной глади и гор. В то воскресенье, не успев устроиться поудобнее, я сразу заметил некую перемену в пейзаже. Внизу, на полпути к южной оконечности острова, виднелась бухта с тремя домиками на берегу. Отсюда побережье, изрезанное низкими мысами и потаенными заливчиками, изгибалось к западу. С той стороны обжитой бухты вздымалась крутая скала, вдававшаяся в глубь острова на несколько сотен ярдов — красноватый откос, покрытый осыпями и трещинами; скала служила словно бы крепостной стеной одинокой виллы, стоявшей на мысу позади нее. Я знал лишь, что дом этот принадлежит афинянину, видимо, состоятельному, который наезжал сюда только в разгар лета. С водораздела просматривалась плоская крыша, остальное заслоняли кроны сосновой рощи.
Но сейчас над крышей вилась белая струйка дыма. В дом кто-то въехал. При виде ее я разозлился злобой Робинзона, ведь теперь южная часть острова уже не безлюдна, а я чувствовал ответственность за ее чистоту. Здесь были мои тайные владения, и никто больше — тут я смилостивился над бедными рыбаками, обитателями хижин — никто, кроме местных тружеников, не имел на них права. Вместе с тем меня одолело любопытство, и я стал спускаться по тропинке, ведущей к заливу на той стороне Бурани — так назывался мыс, на котором стояла вилла.
Наконец за соснами блеснуло море, гряда выгоревших на солнце валунов. Я вышел из леса. Передо мной лежал широкий залив: галечный пляж и стеклянная гладь воды, окольцованные двумя мысами. На левом, восточном, более крутом — это и был Бурани, — среди деревьев, росших здесь гуще, чем в любом другом месте острова, пряталась вилла. Я два или три раза бывал на этом пляже; тут, как и на большинстве пляжей Фраксоса, возникало пленительное ощущение, что ты — первый оказавшийся здесь человек, первый, кто видит, первый, кто существует, самый первый человек на Земле. На вилле не подавали признаков жизни. Я расположился у западной кромки пляжа, где дно поровнее, искупался, перекусил хлебом, маслинами и зузукакией (холодными ароматными фрикадельками) и за все это время не увидел ни души.
Вскоре после полудня я подобрался по горячей гальке поближе к вилле. За деревьями ютилась беленая часовенка. Через трещину в двери я разглядел перевернутый стул, пустой алтарь, безыскусно выписанный иконостас. К двери было пришпилено булавками распятие из золоченой бумаги. Рядом кто-то нацарапал «Айос Димитрьос» — «святой Димитрий». Я вернулся на пляж. Он заканчивался каменистым обрывом, поверху поросшим неприступными зарослями кустарника и сосняка. На высоте двадцати-тридцати футов тянулась не замеченная мною раньше колючая проволока; ограда сворачивала в лес, защищая мыс от вторжения. Меж ее ржавыми жгутами без труда пролезла бы и дряхлая старуха, но нигде больше на острове колючей проволоки мне видеть не доводилось, и она не пришлась мне по душе. Своим присутствием она оскорбляла мое одиночество.
Рассматривая крутой и лесистый знойный склон, я вдруг почувствовал чей-то взгляд и на себе. За мной наблюдали. Под деревьями на обрыве — никого. Я подошел поближе к скале, так что проволочная ограда, проложенная сквозь кустарник, оказалась у меня над головой.
Ох, что это отсвечивает за обломком скалы? Синий ласт. А за ним, полускрытые бледной тенью соседнего обломка, — второй ласт и полотенце. Я снова огляделся и тронул полотенце ногой. Под ним лежала книга. Я сразу узнал обложку: одна из самых расхожих и дешевых антологий современной английской поэзии, точно такая стоит на полке в моей школьной комнате. Растерявшись, я тупо уставился на нее: не моя ли собственная украдена?
Не моя. На форзаце не было имени владельца, но над обрезом торчали аккуратно настриженные ленточки гладкой белой бумаги. Одна из них отмечала страницу, на которой кто-то обвел красными чернилами четверостишие из поэмы «Литтл Гиддинг»:
Мы будем скитаться мыслью,
И в конце скитаний придем
Туда, откуда мы вышли,
И увидим свой край впервые.
Последние три строчки были дополнительно отчеркнуты вертикальной линией.[27] Перед тем как перейти к следующей закладке, я вновь посмотрел вверх, на стену деревьев. На остальных заложенных страницах содержались стихи, обыгрывающие тему островов или моря. Таких было около дюжины. Вечером я отыскал некоторые из них в своей антологии.
Об островах мечтали в колыбелях…
Где страсть прозрачна и уединенна.
В строфе Одена были отмечены только эти две строки, первая и последняя. Столь же прихотливо выбирал владелец книги фрагменты из Эзры Паунда:
Не упусти же звездного отлива.
Стремись к востоку, чтоб омыться в нем,
Спеши! игла дрожит в моей груди!..
Ты не обманешь вещий ход светил.
И еще:
Дух и за гробом пребывает цел!
Так говорила тьма
Ступай немедля по дороге в ад,
Где правит Прозерпина, дочь Цереры,
К Тиресию ступай сквозь мрак нависший
Слепому, к призраку, который в преисподней
Тайн причастился, что неведомы живым,
Здесь ты закончишь путь.
Познание — лишь тень иных теней,
Но твой удел — охотиться за знаньем
На ощупь, как бессмысленная тварь.
Под солнечным ветерком, обычным летним бризом Эгейского моря, лениво толкались в галечный берег волны. Ничего не происходило, все замерло в ожидании. Я второй раз за день ощутил себя Робинзоном Крузо.
Накрыв книгу полотенцем, я с независимым видом повернулся к склону, окончательно убежденный, что за мной наблюдают; потом нагнулся, поднял полотенце и книгу, переложил их на верхушку обломка, рядом с ластами, где их легче будет отыскать. Не по доброте душевной, а чтобы озадачить соглядатая. Полотенце слабо пахло косметикой — кремом для загара.
Я вернулся туда, где сложил свою одежду, уголком глаза посматривая вдоль пляжа. Вскоре я откочевал в тень сосен. Белое пятно на скале светилось в солнечных лучах. Я вытянулся и задремал. Вряд ли надолго. Но, когда проснулся, вещи с того конца пляжа исчезли. Девушка — а я вообразил, что это девушка — подобралась к ним незамеченной. Одевшись, я спустился к воде.
Знакомая тропинка к школе начиналась от центра залива. Но я заметил другую тропку, что бежала вверх по склону вдоль проволочной ограды. Взбираться будет тяжело, сквозь заросли за оградой ничего не разглядишь. В тени покачивались розовые головки диких гладиолусов, в гуще кустарника гулко, дробно затараторила какая-то пичуга. Казалась, она поет всего в нескольких футах от меня, с соловьиной стенающей основательностью, но более судорожно. Голос опасности или соблазна? Бог весть, хотя трудно было отрешиться от мысли, что запела она неспроста. Трель проклинала, переливалась, скрежетала, прищелкивала, звала.