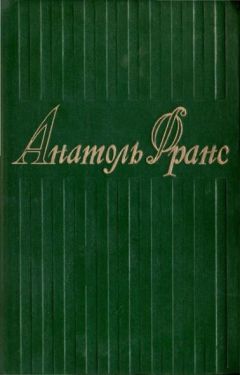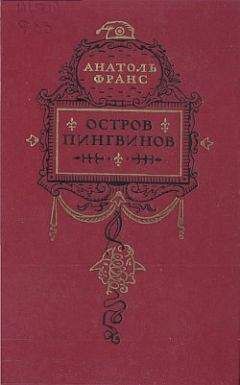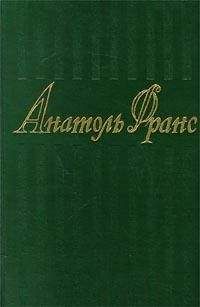Анатоль Франс - 6. Остров Пингвинов. Рассказы Жака Турнеброша. Семь жен Синей Бороды. Боги жаждут
Из опасения прослыть плохим гражданином он пользовался новым календарем[423]. Гражданка Гамлен, любившая ясность в счетах, совершенно терялась в фрюктидорах и вандемьерах.
Она вздохнула:
— Господи Иисусе! Все-то они хотят переиначить: дни, месяцы, времена года, солнце и луну! Боже мой, господин Комбало, что это за пара галош восьмого вандемьера?
— Взгляните на ваш календарь, гражданка, и вам все станет ясно.
Она сняла со стены календарь, взглянула на него и тотчас отвела глаза.
— Он какой-то совсем не христианский! — воскликнула она в испуге.
— Мало того, гражданка, — подхватил сапожник, — у нас теперь только три воскресенья вместо четырех. И это еще не все: скоро переменят нашу систему счета. Не будет больше ни ливров, ни денье, за основу счисленья будет взята дистиллированная вода.
При этих словах у гражданки Гамлен дрогнули губы. Она подняла глаза к потолку и вздохнула:
— Это уж слишком!
Пока она сокрушалась, напоминая своим видом тех святых жен, которых изображают у подножия сельских распятий, головешка, разгоревшаяся на пылающих углях, наполнила мастерскую смрадом, что вместе с одуряющим запахом айвы делало воздух невыносимым.
Элоди стала жаловаться, что у нее першит в горле, и попросила открыть окно. Но как только сапожник ушел и гражданка Гамлен вернулась к плите, Эварист вторично шепнул на ухо гражданке Блез:
— Жак Мобель!
Она взглянула на него, немного удивленная, и с невозмутимым спокойствием, продолжая разрезать айву на четвертинки, спросила:
— Ну и что же?.. Жак Мобель?..
— Это он!
— Кто он?
— Тот, которому ты подарила красную гвоздику.
Она сказала, что ничего не понимает, и потребовала, чтоб он объяснил, в чем дело.
— Аристократ! Эмигрант! Подлец!..
Она пожала плечами и с глубокой искренностью стала уверять, что не была знакома ни с каким Жаком Мобелем.
И действительно она его не знала.
По ее словам, она никому, кроме Эвариста, не дарила красных гвоздик. Но в этом пункте, пожалуй, память ей и изменяла.
Он плохо знал женщин и не слишком хорошо изучил характер Элоди, однако считал, что она способна притворяться и может легко обмануть человека и более опытного, чем он.
— Зачем отпираться? — сказал он. — Я знаю.
Она снова попыталась убедить его, что никогда не была знакома ни с каким Мобелем. И, кончив чистить айву, попросила дать ей воды: у нее липли пальцы,
Гамлен принес таз с водой.
Моя руки, она снова стала разубеждать его.
Он повторил, что знает все, и на этот раз она ничего не возразила.
Она не догадывалась, куда клонятся расспросы ее любовника, и была бесконечно далека от мысли, что этот Мобель, о котором она никогда не слыхала, должен будет предстать перед Революционным трибуналом; она ничего не понимала в подозрениях, которыми ей докучал Эварист, но знала всю их неосновательность. Поэтому, не надеясь их рассеять, она и не стремилась сделать это. Она больше не отрицала, что знакома с Мобелем, предпочитая направить ревнивца по ложному следу, ибо в любую минуту малейшая случайность могла навести его на верный путь. Прежний избранник ее сердца, юный писец, превратившийся в патриота-драгуна, был теперь в ссоре со своей любовницей-аристократкой. Встречая Элоди на улице, он смотрел на нее взором, который, казалось, говорил: «Ну, ну, моя красотка! Чувствую, что скоро я прощу вам свою измену и не сегодня-завтра верну вам благосклонность». Поэтому она больше не старалась излечить возлюбленного от того, что называла его причудами, и Гамлен остался в убеждении, что Жак Мобель — соблазнитель Элоди.
В последующие дни Трибунал занимался без передышки изничтожением федерализма, который, как гидра, угрожал поглотить свободу. Это были страдные дни, и присяжные, изнемогая от усталости, поспешили отправить на эшафот гражданку Ролан, вдохновительницу или соучастницу преступления бриссотинцев.
Между тем Гамлен каждое утро являлся в суд, настаивая на скорейшем рассмотрении дела Мобеля. Важные документы, касающиеся этого дела, находились в Бордо: он добился того, что за ними отправили на почтовых комиссара. Наконец они прибыли.
Помощник общественного обвинителя ознакомился с ними, поморщился и сказал Эваристу:
— Ну, бумаги-то твои не из важных, ничего существенного. Всякий вздор! Будь у нас хотя бы уверенность, что этот бывший граф Мобель эмигрировал!..
Наконец Гамлен добился своего. Молодой Мобель получил обвинительный акт и девятнадцатого брюмера предстал перед Революционным трибуналом.
С самого начала заседания у председателя было угрюмое и зловещее выражение, которое он стремился придать своему лицу всякий раз, когда дело было неясное. Товарищ общественного обвинителя пером почесывал себе подбородок и всячески старался принять вид человека, совесть которого чиста. Секретарь огласил обвинительный акт: всех поразила его необоснованность.
Председатель спросил у подсудимого, знал ли он о законах, изданных против эмигрантов.
— Да, я знал их и соблюдал, — ответил Мобель. — Когда я уезжал из Франции, мой паспорт был в полной исправности.
По поводу обстоятельств, вызвавших его путешествие в Англию и возвращение на родину, он дал вполне удовлетворительные объяснения. Лицо у него было приятное; откровенность и достоинство, с которым он держался, располагали в его пользу. Женщины, завсегдатаи трибун, смотрели на него благосклонным взором. Обвинение утверждало, что он проживал в Испании уже в то время, когда эта страна находилась в состоянии войны с Францией. Он же утверждал, что в ту пору не покидал Байонны. Один только пункт оставался невыясненным. В бумагах, которые он в момент ареста бросил в камин и от которых остались лишь клочки, можно было разобрать испанские слова и имя «Ниевес».
Жак Мобель наотрез отказался дать по этому поводу какие бы то ни было объяснения. А когда председатель указал ему, что в интересах самого подсудимого осветить это обстоятельство, он ответил, что не всегда должно руководствоваться своими интересами.
Гамлен старался изобличить Мобеля лишь в одном преступлении: три раза он заставлял председателя спрашивать у подсудимого, может ли тот объяснить, что это за гвоздика, высохшие лепестки которой он так тщательно хранил.
Мобель ответил, что не считает себя обязанным отвечать на вопрос, не имеющий к суду никакого отношения, ибо в этом цветке не нашли спрятанной записки.
Присяжные удалились в совещательную комнату, настроенные в пользу молодого человека, в запутанном деле которого главное место, по-видимому, занимали любовные тайны. На этот раз даже самые горячие, самые правоверные патриоты охотно высказались бы за оправдательный приговор. Один из них, бывший дворянин, доказавший свою преданность Революции, спросил:
— Неужели ему вменяют в вину его происхождение? Я, например, тоже имел несчастье родиться аристократом.
— Да, но ты порвал с этой средой, — возразил Гамлен, — а он остается в ней и поныне.
И он с такой яростью обрушился на этого заговорщика, на этого эмиссара Питта, на этого сообщника Кобурга, отправившегося чуть ли не на край света, чтобы поднять против свободы ее врагов, он с таким жаром добивался осуждения изменника, что всколыхнул в суровой душе патриотов тревогу, всегда готовую пробудиться.
Один из них цинично заявил ему:
— Есть услуги, в которых нельзя отказать товарищу.
Смертный приговор был вынесен большинством одного голоса.
Осужденный выслушал его с невозмутимой улыбкой. Взгляд, которым он спокойно окинул весь зал, натолкнувшись на лицо Гамлена, исполнился невыразимым презрением.
Приговор был встречен гробовым молчанием.
Жака Мобеля отвели в Консьержери, и там, в ожидании казни, которая должна была состояться в тот же вечер, при свете факелов, он набросал письмо:
Дорогая сестра, Трибунал отправляет меня на эшафот, доставляя мне этим единственную радость, которую я еще могу испытать после смерти моей обожаемой Ниевес. Они отняли у меня последнее, что мне от нее оставалось, — цветок граната, который они почему-то называли гвоздикой.
Я любил искусство: в Париже, в счастливые времена, я собрал коллекцию картин и гравюр; они теперь спрятаны в надежном месте и будут тебе переданы при первой возможности. Прошу тебя, дорогая сестра, сохрани их на память обо мне.
Отрезав прядь волос, он вложил ее в письмо, запечатал конверт и надписал:
Гражданке Клеманс Деземери,
урожденной Мобель.
Ла Реоль.
Он отдал все находившиеся при нем деньги тюремщику с тем, чтобы тот вручил письмо по назначению, затем спросил бутылку вина и в ожидании принялся пить его маленькими глотками.