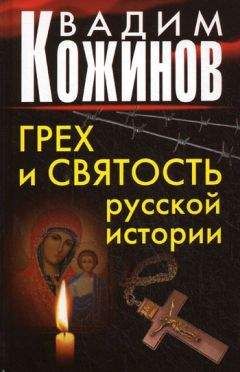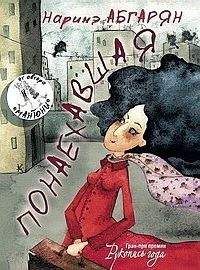Николай Лесков - На ножах
Наконец Катерина Астафьевна не выдержала и спросила:
– Ты, кажется мне, вовсе не любишь своего мужа? Лара промолчала.
– Слышишь, о чем я с тобой говорю? – загорячилась, толкая свой чепец, Форова.
– Слышу; но не знаю, почему это вам так кажется?
– А отчего же ты про него ничего не говоришь?
– Какая странная претензия!
– Нисколько не странная: я сама женщина и сама любила и знаю, что про любимого человека говорить хочется. А тебе верно нет?
– Нет; я не люблю слов.
– Не любишь слов, да и живешь скверно.
– Как же я живу?
– «Как живу!» Скверно, сударыня, живешь! У вас скука, у вас тоска, у вас дутье да молчанка: эта игра не ведет к добру. Лариса! Ларочка! я тебе, от сердца добра желая, это говорю!
И Форова закрыла ладонями рук страницы книги, которую читала Лариса.
– Ах, как это несносно! – воскликнула Лара и встала с места. Майорша вспыхнула.
– Лариса! – сказала она строго, отбросив книжку, – ты мне не чужая, а своя, я сестра твоей матери.
Но Лара перебила ее нетерпеливым вопросом:
– Чего вы от меня, тетушка, хотите? Муж мой, что ли, прислал вас ко мне с этими переговорами?
– Нет; твой муж ничего не говорил мне; а я сама… ты знаешь, какая история предшествовала твоей свадьбе… Лара покраснела и отвечала:
– Никакой я не знаю истории и никакой истории не было.
– Лара, ты должна постараться, чтобы твоего мужа ничто не смущало, чтоб он, закрыв венцом твой неосторожный шаг, был уверен, что ты этого стоишь.
– Надеюсь, что стою.
– Да что же ему-то из этого проку, что ты стоишь, да только молчишь, супишься да губы дуешь: велика ли в этом радость, особенно в самом начале.
– Ну, что же делать, когда я такая: пусть любят такую, какая я есть.
– Капризов нельзя любить.
– Отчего же: кто любит, тот все любит.
– Ну, извини меня, а уж скажу тебе, что если бы такие комедии на первых порах, да на другой нрав…
– Ничего бы не было точно так же.
– Ни до чего нельзя договориться! – вскричала, схватясь с места, Катерина Астафьевна и начала собираться домой, что было привычным ее приемом при всяком гневе.
Лариса молчала и не останавливала тетку, что ту еще более бесило.
– Тупица, капризница и бесчувственная! – произнесла на прощанье Форова и, хлопнув дверью, вышла, слегла дома и занемогла от крайней досады, что не только не может ничего уладить, но даже не в состоянии сама себе уяснить, почему это так скверно началось житье у племянницы с мужем.
Бестолковая «Маланьина свадьба» сокрушала Катерину Астафьевну, да и недаром.
Глава двадцать седьмая
Куда кривая выносит
Подозеров был весь поглощен занятиями по своим новым обязанностям. Вступив в управление и упорядочив кое-как на скорую руку давно заброшенный флигелек, он приехал в город на короткое время и тут же, уладив отсрочку по закладу Ларисиного дома, успокоил жену, что дом ее будет цел и что она может жить, не изменяя никаким своим привычкам, и сам снова уехал в деревню. Дело поглощало все его время, так что он, возвращаясь к ночи домой, падал и засыпал как убитый и, приехав к жене после двух недель такой жизни, был неузнаваем: лицо его обветрело, поступь стала тверже, голос решительнее и спокойнее, что, очевидно, было в прямом соотношении с состоянием нервов.
Он опять пробыл в городе сутки, справился о состоянии и нуждах жены, все что нужно устроил и уехал. Ларису это смутило.
– Что же это: неужто он хочет постоянно вести такую жизнь? Неужто он мною пренебрегает?.. О, нет! Разве это возможно!
Лариса вскочила, схватила зеркало и, разглядывая себя, повторила:
– Нет, нет, это невозможно!
– Да и за что же? – раздумывала она, ходя по своей одинокой зале. – За то, что я немножко капризна, но это мое воспитание виновато, но я не зла, я ничего дурного не сделала… и, Господи, какая скука!
Она провела ночь без сна и несколько раз принималась плакать, а утром написала Форовой, прося ее прийти, с тем чтобы взять лошадей и прокатиться к Подозерову, навестить его сюрпризом.
Вместо ответа на это приглашение к Ларисе явились майор и Евангел, и первый из них сейчас же, полушутя, полусерьезно, сделал ей выговор, зачем она писала.
– Во-первых, – говорил он, – разве вы не знаете, что моя жена нездорова, а во-вторых, у нас нет людей для разноски корреспонденции.
– Тетя больна! – воскликнула Лариса.
– А вы этого и не знали.
– Нет, не знала.
– Удивительно! А вы разве у генеральши не бываете?
– Да; я… как-то давно… сижу дома.
– Ага! Впрочем, это до меня не касается, а по предмету вашего посольства скажу вам свой совет, что никакие провожатые вам не нужны, а возьмите-ка хорошую троечку, да и катните к мужу.
– Да, конечно, но… одной скучно, дядя.
– Одной… к мужу… скучно!..
Майор шаркнул ногой, поклонился и проговорил:
– Благодарю-с, не ожидал.
Он приставил ко лбу палец и начал вырубать:
– Молоденькой, хорошенькой дамочке одной к мужу ехать скучно… Прекрасно-с! А при третьем лице, при провожатом вроде старухи-тетки, вам будет веселей… Нет, нет, именно: благодарю, не ожидал. Мне это напоминает польдекоковскую няньку, охранительницу невинности, или мадемуазель Жиро…[222]
– Дядя! – воскликнула Лариса с желанием остановить майора от дальнейших сравнений.
– Чего-с?
– Как вы говорите?
– А как еще с вами надо говорить? Вы чудиха и больше ничего; вас надо бы как непоседливую курицу взбрызнуть водой, да жигучею крапивкой пострекать.
– Вы циник.
– И что же такое? Я этим горжусь. Зато у меня нет никаких потаенных безнравственных мыслей и поступков: я не растлеваю ничем моей головы и знаете, что я вам скажу, мое милое дитя: я против вас гораздо целомудреннее, даже я пред вами сама скромность и добродетель.
– Дядя! Вы, кажется, не думаете, что вы говорите.
– Нет, я думаю-с, и по самому зрелому размышлению не верю в вашу добродетель. Тсс… тсс… тсс!.. позвольте мне договорить. Я всегда имел большое доверие к женщинам простого, естественного взгляда на жизнь и никогда в этом не каялся. Брехливая собачка чаще всего только полает, а молчаливая тяпнет там, где и сама не думает; а вы ведь весь свой век все отмалчиваетесь и до сих пор вот тупите глазки, точно находитесь в том возрасте, когда верят, что детей нянька в фартучке приносит.
Лара молчала.
– Это прескверно-с, – продолжал майор, – и если бы вы, выходя замуж, спросили старика-дядю, как вам счастливее жить с мужем, то я, по моей цинической философии, научил бы вас этому вернее всякой мадам Жанлис[223]. Я бы вам сказал: не надейтесь, дитя мое, на свой ум, потому что, хоть это для вас, может быть, покажется и обидным, но я, оставаясь верным самому себе, имею очень невысокое мнение о женском уме вообще и о вашем в особенности.
– Дядя! Да что же это наконец такое?
– Не сердитесь-с, не сердитесь.
– Но вы уже говорите мне невыносимые дерзости.
– Я говорю вам только правду, сущую правду, которую подлец не скажет. Подлец будет вам напевать, что вы красавица и умница, что у вас во лбу звезда, а под косой месяц, а я вам говорю: вы не умны, да-с; и вы сделали одну ошибку, став не из-за чего в холодные и натянутые отношения к вашему мужу, которого я признаю большим чудаком, но прекрасным человеком, а теперь делаете другую, когда продолжаете эту бескровную войну не тем оружием, которым способны наилучше владеть ваши войска. Извините меня, что я вам скажу: вы не должны ни о чем думать. Да-с, положительно так! Ум… ум не всем дается-с, и это штука, сударыня моя, довольно серьезная; это орудие, которым нужно владеть с тонким расчетом, тут нужны хорошо обученные артиллеристы, но вам это и не нужно, и именно потому, что у вас пейзаж очень хорош: вы рисунком берите. Да-с; пусть ум остается на долю дурнушек, которым, чтобы владеть человеком, нужны черт знает какие пособия высшей школы: и ум, и добродетели, и характер; а вы и женщины, вам подобной живописи» имеете привилегию побеждать злополучный мужской пол, играя на низшем регистре. То есть я это все говорю в рассуждении того, что вы ведь очень хороши собою…
– Да; но я клянусь, что едва ли какая-нибудь красивая женщина слыхала такие странные комплименты своей красоте.
– Ну, вот видите ли: я веду серьезный разговор, а вы называете мои слова то дерзостями, то комплиментами, тогда как я не говорю ни того, ни другого, а просто проповедую вам великую вселенскую правду, которая заключается в том, что когда красивая женщина не хочет сделать своей красоты источником привязанности избранного человека, а расплывается в неведомо каких соображениях, то она не любит ни этого человека, ни самое себя, то есть она, попросту говоря, дура.
– Тcс!.. полно ты, полно грубиянить, – остановил его Евангел.
– А что ж, разве я не прав! Красота – сила, и такая здоровенная, что с нею силы, гораздо ее совершеннейшие, часто не справятся.
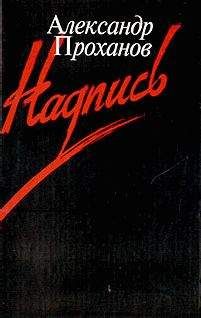
![Евгений Сартинов - Гороскопы всегда врут [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)