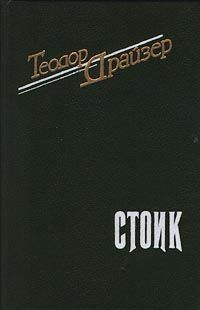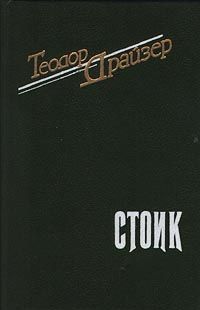Теодор Драйзер - Титан
Она снова попыталась приблизиться к нему, коснуться его руки, но он шагнул в сторону. Он смотрел на нее, и она была ему неприятна — и физически и духовно: в ней, казалось, воплотилось все, что он с трудом мог выносить в людях. От былого обаяния не осталось и следа, чары развеялись. Ему нужна была теперь женщина совсем иного типа, иного склада ума, а главное, главное — ему нужна была молодость, легкокрылая молодость, воплощенная в облике Беренис Флеминг. Ему было жаль Эйлин, но другое чувство господствовало в нем, заглушая голос сострадания, подобно тому, как рев бури и яростный грохот волн заглушают далекий жалобный сигнал гибнущего судна.
— Ты не понимаешь. Эйлин, — сказал Каупервуд. — Я ничего не властен изменить. Моя любовь к тебе умерла. Я не могу возродить ее. Не могу заставить себя любить. Рад бы, да не могу. Ты должна это понять. Не все зависит от нашей воли.
Он посмотрел на нее, и взгляд его не смягчился. Эйлин прочла в его глазах холодную, беспощадную решимость: перед ней был рассудочный делец, коммерсант, хищник, человек с каменной душой. Она поняла, что доступ к его сердцу закрыт для нее навеки, и страх, гнев, бешенство, отчаяние охватили ее; на мгновение она словно лишилась рассудка.
— О Фрэнк, не говори так! Не говори! — крикнула она, не помня себя. — Прошу тебя, молю — не говори так! Ты можешь еще полюбить меня опять, немножко, если только… если только сам будешь в это верить. Разве ты не понимаешь, каково мне? Разве ты не видишь, как я страдаю?
Она упала перед Каупервудом на колени и обхватила его руками.
— Фрэнк! Фрэнк! О Фрэнк! — восклицала она, заливаясь слезами. — Я этого не переживу, нет, нет — я не могу этого вынести, Фрэнк!
— Эйлин, возьми себя в руки, — сказал Каупервуд. — Все это ни к чему. Я не могу обманывать себя и не хочу лгать тебе. Жизнь слишком коротка. Что случилось — то случилось. Если бы я мог сказать тебе, что я тебя люблю, и сам поверить в это, я бы так и сделал. Но я не могу. Я не люблю тебя. Зачем же я буду тебя обманывать?
Эйлин в душе все еще оставалась немного ребенком — избалованным, взбалмошным, капризным; вместе с тем она была отчасти и актрисой — любила преувеличения, позу. Но прежде всего она была женщиной, способной чувствовать глубоко, переживать страстно, действовать безрассудно, очертя голову. Услыхав слова Каупервуда, поняв, что он твердо решил бросить ее, об» речь на одиночество, она вне себя от отчаяния стала молить его не покидать ее совсем. Она готова делить его с другой. Ведь мирилась же она со Стефани Плейто, с Флоренс Кокрейн, с Сесили Хейгенин, с миссис Хэнд — со всеми, в сущности, кто был у него после Риты Сольберг… Она никогда не будет ему мешать. Она не следила за ним, вовсе нет, просто случайно встретила его с Беренис Флеминг… Конечно, Беренис красива, она это признает, но ведь она тоже еще хороша, пусть не так, как раньше, но все же… Разве он не может найти и для нее местечко в своей жизни? И для Беренис и для нее, для обеих?
При виде такого унижения и малодушия Каупервуд почувствовал горечь, отвращение, доходившее до тошноты… ему было и больно за Эйлин и противно. Ну что тут скажешь? Как убедить ее? Как заставить понять?
— Я бы хотел, чтобы это было возможно, Эйлин, — сказал он, наконец, с усилием, — но, к сожалению, это немыслимо.
Эйлин вскочила на ноги. Она посмотрела на него в упор красными, воспаленными глазами; слезы ее высохли.
— Значит, ты совсем не любишь меня? Совсем, совсем?
— Нет, Эйлин, не люблю. Я не хочу сказать, что ты мне неприятна. Я не отрицаю, что ты по-своему очень привлекательна, и не думай, что я не сочувствую тебе. Но я не люблю тебя. Я не могу тебя любить. Тех чувств, какие были у меня к тебе когда-то, больше нет и быть не может.
Эйлин молчала в растерянности, не зная, что делать, что сказать; лицо ее побелело, приобрело какую-то необычную одухотворенность. Боль, ярость, отчаяние раздирали ее душу, но, словно скорпион в кольце огня, она сумела обратить их только против самой себя. Будь проклята эта жизнь! Все уходит, и остаешься одна, совсем одна, стареть в одиночестве. Любовь ушла, и ничего нет! Ничего, ничего, пустота!
В глазах ее вспыхнула решимость; казалось, она снова на мгновение обрела волю.
— Ну что ж, — твердо произнесла она. — Я знаю, что мне делать. Я не стану так жить. Эта ночь будет для меня последней.
Она не выкрикнула эти слова, а проговорила их совсем спокойно. Теперь он узнает, как велика ее любовь.
Но Каупервуд счел ее слова за браваду, продиктованную бешенством, отчаянием, за попытку напугать его. Эйлин молча повернулась и направилась к лестнице — величественному сооружению из мрамора и бронзы, с мраморными нереидами вместо колонн и барельефами, изображающими античную пляску. Она неторопливо поднялась к себе в спальню, взяла нож для разрезания бумаги с бронзовой рукояткой и очень острым стальным лезвием в форме кинжала, прошла по внутренней галерее над зимним садом и отворила дверь в бело-розовую комнату, где щебетали птицы, стояли каменные скамьи, вились виноградные лозы, в тихом водоеме чуть поблескивала вода, а за прозрачно-мраморными стенами, казалось, вечно всходило солнце. Заперев за собой дверь, она присела на скамью, обнажила руку, внезапным резким движением всадила нож в вену, повернула его, стараясь расширить рану, и стала ждать. Ну вот, теперь она посмотрит, что он сделает, позволит он ей умереть или нет!
Каупервуд продолжал сидеть в зимнем саду, где оставила его Эйлин, пораженный, раздосадованный, недоумевающий. Неужели Эйлин отважится на такой отчаянный шаг, неужели так сильна ее любовь? Каупервуд не слишком тревожился вначале; обычная женская уловка, ничего больше! Однако… А вдруг она и вправду покончит с собой? Да нет, это невозможно. Какая нелепость! Но жизнь выкидывает порой такие странные, такие безумные шутки. Эйлин пригрозила ему и ушла; поднялась наверх, — быть может, для того, чтобы привести в исполнение свою угрозу… Невероятно! Да нет, никогда она этого не сделает. Так он сидел, мучаясь сомнениями, а в душу его уже закрадывался страх. Он вспомнил вдруг, как она напала на Риту Сольберг.
Каупервуд взбежал по лестнице и заглянул к Эйлин в спальню. Ее там не было. Он-быстро прошел по галерее, отворяя все двери одну за другой, пока не очутился перед мраморной комнатой. Дверь была заперта изнутри — вероятно, Эйлин там. Каупервуд толкнул ее — да, дверь на запоре.
— Эйлин! — позвал он. — Эйлин! Ты здесь? — Ответа не последовало. Каупервуд прислушался. Все было тихо. — Эйлин! — повторил он. — Ты здесь? Что за нелепость, да отвечай же!
— Черт возьми! — пробормотал он, отступая на шаг. — Она и вправду, пожалуй, может выкинуть такую штуку! А что, если она уже… — Из-за двери не доносилось ничего, кроме сердитого щебета птиц, потревоженных, как видно, зажегшимся светом. Пот выступил на лбу Каупервуда. Он повертел ручку двери, позвонил и приказал слуге принести запасные ключи, стамеску и молоток.
— Эйлин! — крикнул он. — Если ты сию минуту не отопрешь дверь, я прикажу ее взломать. Это сделать нетрудно.
Никакого ответа.
— А, черт побери! — воскликнул Каупервуд, уже не на шутку испуганный. Слуга принес ключи. Каупервуд нашел нужный ключ, но не смог вставить его в замочную скважину — мешал другой ключ, вставленный изнутри. — Дайте мне большой молоток! Дайте стул! — крикнул Каупервуд. Но, не дожидаясь, пока ему все это принесут, он вставил между створками двери стамеску, налег на нее, и дверь с треском распахнулась.
На мраморной скамье у края водоема, среди тропических птиц, мирно перепархивающих с ветки на ветку в нежно-розовых лучах искусственной зари, сидела Эйлин; лицо ее было бледно, волосы растрепаны, из левой руки, бессильно повисшей вдоль туловища, сочилась густая алая кровь и растекалась по полу у нее ног, словно роскошный бархатный ковер, уже начинавший слегка тускнеть по краям.
Каупервуд на мгновение застыл на месте. Затем бросился к Эйлин, схватил ее руку, крикнул, чтобы послали за врачом, и, разорвав носовой платок, наложил жгут повыше раны.
— Как ты могла это сделать, Эйлин! Чудовищно! Посягнуть на свою жизнь! Это не любовь. Это даже не безумие. Это просто глупость!
— Ты вправду больше не любишь меня? — спросила она.
— Как ты можешь спрашивать! Нет, как ты только могла это сделать! — Каупервуд был раздосадован, зол, рад, что она все-таки жива, пристыжен…
— Ты не любишь меня? — устало повторила она.
— Эйлин, замолчи! Я не стану объясняться с тобой сейчас. Надеюсь, ты больше нигде себя не поранила? — спросил он, ощупывая ее грудь и бока.
— Зачем же ты помешал мне умереть? — сказала она все так же безжизненно и устало. — Все равно я умру. Я хочу умереть.
— Ну, когда-нибудь ты, вероятно, умрешь, — ответил он. — Но не сегодня. И я не думаю, чтобы тебе сейчас очень этого хотелось. Нет, Эйлин, право, это все-таки слишком! Просто возмутительно!