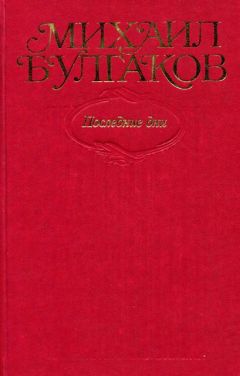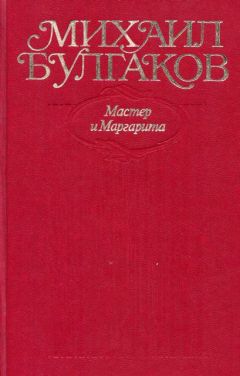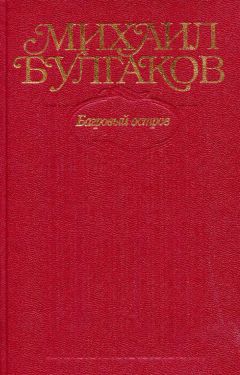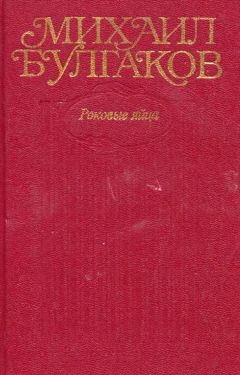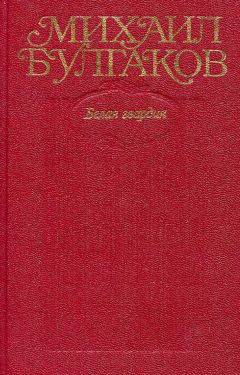Михаил Булгаков - Том 6. Кабала святош
— Бросьте трепаться. Мы не одни в квартире, и муж сейчас вернется.
Иван, как ни был воспален его мозг, понял, что вляпался, что произошел конфуз и, желая скрыть его, прошептал:
— Ах, развратница!
Он захлопнул дверь, услышал, что грохнула дверь в кухне, понял, что беглец там, ринулся и точно увидел его. Он, уже в полных сумерках, прошел гигантской тенью из коридора налево.
Ворвавшись вслед за ним в необъятную пустую кухню, Иван утратил преследуемого и понял, что тот ускользнул на черный ход. Иван стал шарить в темноте. Но дверь не поддавалась. Он зажег спичку и увидел на ящике у дверей стоящую в подсвечнике тоненькую церковную свечу. Он зажег ее. При свете ее справился с крючком, болтом и замком и открыл дверь на черную лестницу. Она была не освещена. Тогда Иван решил свечку присвоить, присвоил и покатил, захлопнув дверь, по черной лестнице.
Он вылетел в необъятный двор и на освещенном из окон балконе увидел убийцу. Уже более не владея собой, Иванушка засунул свечечку в карман, набрал битого кирпичу и стал садить в балкон. Консультант исчез. Осколки кирпича с грохотом посыпались с балкона, и через минуту Иван забился трепетно в руках того самого швейцара, который приставал с Борей и шахматами.
— Ах ты, хулиган! — страдая искренно, засипел швейцар. — Ты что же это делаешь? Ты не видишь, какой это дом? Здесь рабочий элемент живет, здесь цельные стекла, медные ручки, штучный паркет!
И тут швейцар, соскучившийся, ударил с наслаждением Ивана по лицу.
Швейцар оказался жилистым и жестоким человеком. Ударив раз, он ударил два, очевидно входя во вкус. Иван почувствовал, что слабеет. Жалобным голосом он сказал:
— Понимаешь ли ты, кого ты бьешь?
— Понимаю, понимаю, — задыхаясь, ответил швейцар.
— Я ловлю убийцу консультанта, знакомого Понтия Пилата, с тем, чтобы доставить его в ГПУ.
Тут швейцар в один миг преобразился. Он выпустил Иванушку, стал на колени и взмолился:
— Прости! Не знал. Прости. Мы здесь на Остоженке запутались и кого не надо лупим.
Некоторые проблески сознания еще возвращались к Иванушке. Едкая обида за то, что швейцар истязал его, поразила его сердце, и, вцепившись в бороду швейцара, он оттрепал его, произнеся нравоучение:
— Не смей в другой раз, не смей!
— Прости великодушно, — по-христиански ответил усмиренный швейцар.
Но тут и швейцар, и асфальтовый двор, и громады, выходящие своими бесчисленными окнами во двор, все это исчезло из глаз бедного Ивана, и сам он не понял и никто впоследствии не понимал, каким образом он увидел себя на берегу Москвы-реки.
Огненные полосы от фонарей шевелились в черной воде, от которой поднимался резкий запах нефти. Под мостом, в углах зарождался туман. Сотни людей сидели на берегу и сладострастно снимали с себя одежды. Слышались тяжелые всплески — люди по-лягушечьи прыгали в воду и, фыркая, плавали в керосиновых волнах.
Иван прошел меж грудами одеяний и голыми телами прямо к воде. Иван был ужасен. Волосы его слиплись от поту перьями и свисли на лоб. На правой щеке была ссадина, под левым глазом большой фонарь, на губе засохла кровь. Ноги его подгибались, тело ныло, покрытое липким потом, руки дрожали. Всякая надежда поймать страшного незнакомца пропала. Ивану казалось, что голова его горит от мыслей о черном коте — трамвайном пассажире, от невозможности понять, как консультант ухитрился……….
Он решил броситься в воду, надеясь найти облегчение. Бормоча что-то самому себе, шмыгая и вытирая разбитую губу, он совлек с себя одеяние и опустился в воду. Он нашел желанное облегчение в воде. Тело его ожило, окрепло. Но голове вода не помогла. Сумасшедшие мысли текли в ней потоком.
Когда Иванушка вышел на берег, он убедился в том, что его одежды нет. Вместо оставленной им груды платья находились на берегу вещи, виденные им впервые. Необыкновенно грязные полотняные кальсоны и верхняя рубашка-ковбойка с продранным локтем. Из вещей же, еще недавно принадлежащих Ивану, оставлена была лишь стеариновая свеча.
Иван, не особенно волнуясь, огляделся, но ответа не получил и, будучи равнодушен к тому, во что одеваться, надел и ковбойку, и кальсоны, взял свечу и покинул берег.
Он вышел на Остоженку и пошел к тому месту, где некогда стоял храм Христа Спасителя. Наряд Иванушки был странен, но прохожие мало обращали на него внимания — дело летнее.
— В Кремль, вот куда! — сказал сам себе Иванушка и, оглянувшись, убедился, что в Москве уж наступил полный вечер, то есть очередей у магазинов не было, огненные часы светились, все окна были раскрыты, и в них виднелись или голые лампочки, или лампочки под оранжевыми абажурами. В подворотнях играли на гитарах и на гармонях, и грузовики ездили с сумасшедшей скоростью.
— В Кремль! — повторил Иванушка, с ужасом оглядываясь. Теперь его уже пугали огни грузовиков, трамвайные звонки и зеленые вспышки светофоров.
ДЕЛО БЫЛО В ГРИБОЕДОВЕ
К десяти часам вечера в так называемом доме Грибоедова, в верхнем этаже, в кабинете товарища Михаила Александровича Берлиоза собралось человек одиннадцать народу. Народ этот отличался необыкновенной разношерстностью. Так, один был в хорошем, из парижской материи, костюме и крепкой обуви, тоже французского производства. Это был председатель секции драматургов Бескудников. Другой в белой рубахе без галстука и в белых летних штанах с пятном от яичного желтка на левом колене. Помощник председателя той же секции Понырев. Обувь на Поныреве была рваная. Батальный беллетрист Почкин, Александр Павлович, почему-то имел при себе цейсовский бинокль в футляре и одет был в защитном. Некогда богатая купеческая дочь Доротея Саввишна Непременова подписывалась псевдонимом «Боцман-Жорж» и писала военно-морские пьесы, из которых ее последняя «Австралия горит» с большим успехом шла в одном из театров за Москвой-рекой. У Боцмана-Жоржа голова была в кудряшках. На Боцмане-Жорже была засаленная шелковая кофточка старинного фасона и кривая юбка. Боцману-Жоржу было 66 лет.
Секция скетчей и шуток была представлена небритым человеком, облеченным в пиджак поверх майки, и в ночных туфлях.
Поэтов представлял молодой человек с жестоким лицом. На нем солдатская куртка и фрачные брюки. Туфли белые.
Были и другие.
Вся компания очень томилась, курила, хотела пить. В открытые окна не проникала ни одна струя воздуха. Москва как наполнилась зноем за день, так он и застыл, и было понятно, что ночь не принесет вдохновения.
— Однако вождь-то наш запаздывает, — вольно пошутил поэт с жестоким лицом — Житомирский.
Тут в разговор вступила Секлетея Савишна и заметила густым баритоном:
— Хлопец на Клязьме закупался.
— Позвольте, какая же Клязьма? — холодно заметил Бескудников и вынул из кармана плоские заграничные часы. И часы эти показали……….
Тогда стали звонить на Клязьму и прокляли жизнь. Десять минут не соединялось с Клязьмой. Потом на Клязьме женский голос врал какую-то чушь в телефон. Потом вообще не с той дачей соединили. Наконец соединились с той, с какой было нужно, и кто-то далекий сказал, что товарища Цыганского вообще не было на Клязьме. В четверть двенадцатого вообще произошел бунт в кабинете товарища Цыганского, и поэт Житомирский заметил, что товарищ Цыганский мог бы позвонить, если обстоятельства не позволяют ему прибыть на заседание.
Но товарищ Цыганский никому и никуда не мог позвонить. Цыганский лежал на трех цинковых столах под режущим светом прожекторов. На первом столе — окровавленное туловище, на втором — голова с выбитыми передними зубами и выдавленным глазом, на третьем — отрезанная ступня, из которой торчали острые кости, а на четвертом — груда тряпья и документы, на которых засохла кровь. Возле первого стола стояли профессор судебной медицины, прозектор в коже и в резине и четыре человека в военной форме с малиновыми нашивками, которых к зданию морга, в десять минут покрыв весь город, примчала открытая машина с сияющей борзой на радиаторе. Один из них был с четырьмя ромбами на воротнике.
Стоящие возле столов обсуждали предложение прозектора — струнами пришить голову к туловищу, на глаз надеть черную повязку, лицо загримировать, чтобы те, которые придут поклониться праху погибшего командора Миолита, не содрогались бы, глядя на изуродованное лицо.
Да, он не мог позвонить, товарищ Цыганский. И в половину двенадцатого собравшиеся на заседание разошлись. Оно не состоялось совершенно так, как и сказал незнакомец на Патриарших Прудах, ибо заседание величайшей важности, посвященное вопросам мировой литературы, не могло состояться без председателя товарища Цыганского. А председательствовать тот человек, у которого документы залиты кровью, а голова лежит отдельно, — не может. И все разошлись кто куда.