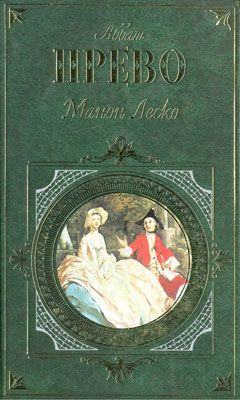Шодерло Лакло - Опасные связи. Зима красоты
Аннеке вскочила на ноги и так бурно обняла Изабель, что та пошатнулась. Юное, поблекшее от скорбных слез личико внезапно вновь озарилось ликующим сиянием: «О, мадам Изабель!» Свежие губы прильнули к шершавой щеке, на которой оспа оставила свою страшную мету.
Они улыбнулись друг дружке. И тут же Изабель, мучительно оскалившись, пробормотала: «А теперь оставь меня!»
* * *Я решилась в несколько минут, оставив Изабель ее упрямому отчаянию, ее напускной грубости. Ибо ее молчание в ответ на расспросы служанок было моею выдумкой — так я репетировала ту гипотетическую жестокость, которую мне приписали заранее. Что-то нашептывало мне, что она непрестанно выказывала злость именно для того, чтобы излить ее, избавиться от нее путем постоянных стычек с окружающими. А может, я и заблуждалась на ее счет с самого начала. Соблазн давить, подчинять себе живые существа никогда не ослабевает, повторяясь вновь и вновь. Я часто твержу себе это. Подобные рецидивы воспитывают меня. И учат — многому. Я тоже играю в эту игру — не очень давно, но играю. Слова Рашели явились для меня внезапным откровением на эту тему. Рашели или Элен? Обеих. Вот это-то я и называю «играться с окружающими» — или уж я совсем не разбираюсь в жизни.
Итак, я позвонила Полине. На сей раз не домой — в клинику. Разумеется, она не подошла к телефону. Пришлось мне обговаривать с кем-то другим время консультации, называть имя-отчество-фамилию… Внезапно мне стало тошно от всего этого. Я давно отвыкла представляться другим людям, — вероятно, из презрения к ним, хотя и презрение в некоторых случаях способно охранить вас. Я прекрасно знаю, как меня НЕ зовут, а имя… Господи, какой пустяк!
В клинике на меня заполнили карточку, не удостоив ни единым взглядом. Когда я очутилась в приемной, страхи мои несколько улеглись. Ужасы во множественном числе обращаются в банальность, а ужасов здесь хватало, и мне, с моей рожей, было далеко до некоторых из них. Не видя этого, быстро забываешь, чем нас способна «одарить» милосердная жизнь. Мои соседи встретились на своем пути кто с лобовым стеклом автомобиля, кто с кипящим маслом, кто с кислотой, с раком, с неумелыми врачами. По сути дела, жизнь старается избегать уродств и увечий: вот почему, собранные вместе, они утрачивают свой невыносимый гнет.
Когда я вошла в кабинет, Полина улыбнулась:
— Ну, решила наконец?
Да, я решила! Вся ее команда разглядывала меня острым профессиональным глазом, перебрасываясь анатомическими терминами со страстью ученых педантов.
У секретарши, делавшей записи, была красивая, но холодная, застывшая мордочка. Интересно, а не подновили ли и ей фасад? Эта мысль мне не понравилась. Девица покачивала ножкой, звенела многочисленными кольцами, шуршала шелком, у нее была цепочка на щиколотке и пресыщенный вид многоопытной особы… Я отвела взгляд; негоже примеривать к себе все встречные смазливые личики; верно сказала Рашель: это всего лишь личико.
Здесь у Полины был совсем другой голос, иные тон и ирония, чем там, в шезлонге на лужайке, близ розовых кусов. Вот только взгляд не изменился. Она снова исследовала, прощупала меня. В ее руках, под ее пальцами, я была всего лишь куском мяса, ни больше, ни меньше. Она разъясняла своим ассистентам, что собирается удалить, обрезать, закрепить, какими материалами нужно пользоваться. Нет, костяная мука не подойдет — слишком большое пространство нужно заполнить… и пересадка кости здесь тоже не годится — очень долго приживается и совсем ненадежно. «Но почему бы не попробовать? — кипятился брюнет со взглядом фанатика, — она молодая, крепкая, здоровая — выдержит!» — «Посмотрим после рентгена, — охлаждала его пыл молодая женщина со строгой прической, — может, ей вовсе не улыбается сидеть в клетке все время, что приживается кость, это ведь не подопытная собака, старина!»
Да, я не входила в число его подопытных собак. Я была не прочь послужить им предметом для игры, но притом собиралась поиграть и сама. Помнили ли они о том, что жизнь завоевывается для всех одинаковым образом, а именно активным участием в «игре»? Они смеялись, подмигивали Полине. Особенно мужчины. До меня дошло — правда, не сразу, — что они разделяют ее вкус к красивым женским телам и любовь к трудным «случаям».
Весь день ушел на многочисленные исследования и анализы; их сплошная череда помешала мне предаваться страхам и унынию. Всякий раз, как я сталкивалась с Полиной, — а теперь я знаю, что она старалась в тот день попадаться мне на глаза как можно чаще, — я видела, что ее мучат сомнения не меньше моего. Моя боязнь моральных последствий операции передалась и ей: Рашель пересказала Полине наш разговор, и при каждой очередной встрече я читала в ее взгляде что-то похожее на мольбу:
«Не жалей ни о чем, не заставляй меня мучиться угрызениями совести, я и так уже несу свою часть этого гнета!»
Перед самым концом исследований я наткнулась на Полину в коридоре; стоя перед балконной дверью, она задумчиво покусывала ноготь большого пальца. Она была так напряжена, что, казалось, стекла вот-вот зазвенят от устремленного на них взгляда.
Она отмахнулась от меня, и мне пришлось вручить всю кипу анализов и прочих справок секретарше, которая рассеянно записала меня на среду, велев принести оплаченную страховку. Оглянувшись, я еще раз увидела Полину, по-прежнему застывшую посреди коридора. Девица с презрительным равнодушием объяснила: Полина только что прооперировала девочку-подростка; после таких операций она не сразу выходит из транса, не следует обращаться к ней. Эта глупая красивая пустельга мне решительно не нравилась. Я не была уверена, что хочу жить с таким лицом, как у нее. Еще немного, и я попросила бы Полину соорудить мне самую невзрачную из всех заурядных физиономий.
Я ушла, борясь со все возрастающим ощущением полной неопределенности и одновременно сладенькой мечтательности, как будто нанялась сниматься статисткой в какой-нибудь из фильмов Спилберга. И почти готовая все бросить к черту. Я позвонила Рашель, но мне никто не ответил. И тогда я побежала к своему братцу, в его роскошную «хижину». Маёге[94] купила ему эту гарсоньерку втайне от нас всех — по крайней мере, она так думает, — экономя на чем только можно, в том числе и на мне, и мы оба — и я, и мой брат — прекрасно это знаем. Мой милый братец утверждает, что недостаток конфет и пирожных сослужил НАМ хорошую службу, сохранив прекрасные зубы; на самом деле польза от этого только Е одному, кому эти лишения принесли очень недурную «хазу» на верхнем этаже здания, построенного под офисы, на улице Сен-Бенуа.
Я частенько забегаю к нему сюда (когда он дома). После шести вечера офисы пустеют, и квартирка — словно необитаемый островок среди моря черепичных крыш вокруг площади Сен-Жермен. Здесь так уютно, что я даже не испытываю горечи или зависти, — во всяком случае, по отношению к нему.
Брат тотчас почуял, что я не в себе. Он сунул мне в руку стакан и усадил перед огнем, который всегда разводит в камине «под настроение» — свое и мое.
Мне хорошо у него. Пять бывших каморок прислуги образовали одну длинную комнату в пять окон; каждое освещает свой уголок — уголок мечтаний, уголок чревоугодия, уголок обольщения, любви или одиночества. Его постель тянется вдоль трех дальних окон, — на ней он читает, ласкает, наслаждается, иногда даже спит. И я спрашиваю себя: что он знает в жизни, кроме денежных затруднений в конце месяца; мучится ли сомнениями, смирился ли с тем, что ему — и ему тоже! — суждено постареть. Мой брат красив, как картинка, он всегда был красив, как картинка…
Мы долго сидели рядом, оглаживая друг друга. Эти невинные ласки заменяют нам беседу; но когда я начала слишком уж рьяно прижимать к себе Диэго, словно втирала в кожу приторно-сладкий крем, он впился в меня подозрительным взглядом: а ну-ка, детка, выкладывай, что стряслось? И я выложила… на сей раз вполне победным тоном, — то-то старики взовьются! Он улыбнулся; полулежа, подложив под голову ладонь, он исподтишка разглядывал меня.
— Тебе нужны деньги?
И тотчас добавил, что прекрасно понимает: я пришла не для этого, но все-таки, хватит ли мне на операцию? Хорошо ли ее сделают? И кто?
Я расказала про трех «толстух» в темно-красном домике, и мой братец зашелся от нервного хохота. Ей-богу, моя новость взволновала его. Он оказался «глубже», чем я думала; поистине, нынче мне выпал день открытий.
Зазвонил телефон, и Диэго резко вскочил, ухватившись за этот предлог, чтобы скрыть свои чувства. Говорил он сухо, отрывисто, — разумеется, с женщиной: нет, он не может… нет, он не зайдет за ней к этим, как их… Он сурово нахмурился: «Слушай, ты мне надоела!» Женщина, вероятно, кричала, потому что он отвел трубку подальше от уха. Я вновь увидела знакомое выражение на его лице, когда его пальцы поползли к рычагам аппарата. Он нажал на них и прервал разговор.