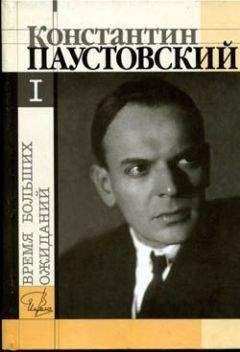Константин Паустовский - Повесть о жизни. Книги 4-6
В Поти я понял, как неверны и опасны для правильного восприятия жизни наши общие представления. Ничего подобного тому, чего я ждал, в Поти не было, за исключением мимоз. Но зато в Поти был большой порт, где, бурля малахитовыми водопадами, долго разворачивались грузовые пароходы. Они приходили сюда за марганцевой рудой.
Бетонные массивы портовых причалов, раскалившись на солнце, пахли засохшими крабами.
В город из порта (город лежал за рекой Риони) ходил тесный старый трамвай. Удивительно было, как он не сгорал от солнцепека во время каждого медленного рейса и как пассажиров не хватал солнечный удар.
Потийские (колхидские) болота тянулись от самого города до отдаленных Гурийских гор. К полудню эти болота, казалось, закипали, обволакиваясь паром, и кипели до вечера.
Река Риони – желтая, как кизяк, неслась среди этих болот с непостижимой быстротой. Она все время пыталась перелиться через плоские берега и затопить город.
Риони весь завивался воронками и водоворотами. Падение в него грозило неизбежной гибелью. Даже переходить Риони по мосту было немного страшно.
Низкие городские дома весь день перегревались на солнце. Веера молодых пальм, насаженных вдоль улиц, не давали тени. Тяжелые классические розовые розы цвели в палисадниках и засыпали мостовые грудами быстро желтеющих лепестков.
Весь день из домов сочился чад жареного лука и баранины и запах кислого вина.
Тех читателей, которые хотят составить себе более ясное представление о Поти, я мог бы отослать к своей книге «Колхида», если бы сам не понимал, что в книге этой Поти изображен несколько приукрашенным. Таким я увидел этот город, и тут уж я ничего не могу поделать. Я не могу изменить свою способность видеть.
Временами Поти казался мне тропической каторгой, чем-то вроде Новой Каледонии{228}, особенно когда слепящий блеск моря и неба погружал его в оцепенение.
Часто гнетущая тишина потийских дней прерывалась отдаленным, быстро нараставшим гулом грозы. Стена ливня набегала на город со стороны моря, под неистовый гомон лягушек.
Ливень обрушивался зловещей темнотой и занавесами воды. Пар подымался над крышами.
Но ливень быстро уходил в сторону гор. Нигде в жизни я не видел таких ультрамариново-синих и прозрачных луж, как те, что оставались на улицах Поти после этих скоропалительных ливней.
Я каждый день ходил в Колхидстрой. Там главный инженер Нодия – человек шумный, но рассудительный – знакомил меня с работами по созданию в Колхиде советских субтропиков.
Изредка Нодия устраивал в духанах маленькие ужины и любил произносить во время этих ужинов витиеватые тосты. «К нам, – говорил он, – приехал академик, „золотое перо“. Он напишет о Колхиде свою лебединую песню».
Я не мог опровергать Нодию, – он был так добродушен, что язык не поворачивался возражать ему. К тому же я понимал, что «академик», «золотое перо» и «лебединая песня» – это только обязательные цветы застольного красноречия.
В Поти я познакомился с молодым инженером-грузином. Он вошел в «Колхиду» под именем Габунии.
Если бы мне понадобилось описать его в двух словах, то я бы сказал, что в нем яснее всего были видны черты скептика и поэта. Эти, как бы враждебные друг другу черты жили совершенно слитно в этом немногословном и мягком человеке.
Больше всего в нем привлекало меня редкое свойство сближать свою огромную начитанность с повседневной окружающей жизнью, со своей работой в Колхиде (Габуния руководил проведением канала в Чаладидах), с разнообразными людьми, событиями в стране и течением своей личной жизни.
Читал ли он Страбона{229} или Монтеня{230}, статьи профессора Краснова{231} о субтропиках или стихи Бараташвили{232}, путешествия Вамбери или «Корабль „Ретвизан“ Григоровича{233}, Блока или «Тропическую природу» Уоллеса{234} – во всем он находил мысли, отвечающие его сегодняшним интересам.
Я считаю, что встреча с ним была самым плодотворным событием во время поездки в Колхиду. Она помогла мне узнать Колхиду в той – несколько острой и резкой – новизне, какая была необходима, чтобы представить себе недалекое будущее этой земли.
Габуния возил меня в Чаладиды. Там я впервые увидел джунгли. Понадобилась все же сила воли, чтобы не заболеть «болезнью джунглей». Не я придумал эту болезнь. Она существует в действительности, хотя подвержены ей далеко не все люди, попавшие в джунгли.
Болезнь джунглей – это внезапно завладевающее вами очарование этих непроходимых зарослей (в них почему-то мало птиц) с их дурманящим душным воздухом, с коричневой землей, безмолвием, могучими лианами, стоячими реками, подернутыми дымком зноя, чавканьем диких кабанов и постоянным ощущением, что где-то рядом живут нераскрытые тайны. И даже, несмотря на то что этих тайн на самом деле нет, вы все же находитесь в постоянном ожидании чего-то нового и неиспытанного.
С Габунией мы иногда по вечерам ездили на трамвае из Поти в порт, в безлюдный ресторан на молу и долго сидели, слушая, как шумели волны, разбиваясь о массивы, и смотрели, как, мигая огнями, подходили к Поти из открытого моря неизвестные пароходы.
И Габуния однажды сказал, как бы сообщая мне дружескую тайну:
Мы с тобою, муза, быстроноги.
Любим ивы вдоль большой дороги,
Свежий шум дождя, а вдалеке
Белый парус на большой реке.
Этот мир такой большой и строгий,
Что нет места в нем пустой тоске…
– Быстроногая муза, – повторил он. – Хорошо?
– Хорошо, – согласился я.
– Самая быстроногая муза – это муза Пушкина.
Он замолк, наклонился над стаканом вина, и я подумал, что передо мной сидит большой поэт. Он не написал ни строчки стихов, но – все равно – отдаленной, но явной поэзией была полна его жизнь и его работа.
Пароходы входили в порт. Их огни колебались на волнах. Мне всегда казалось, что эти огни особенно ярки оттого, что они прошли через обширные пространства морского воздуха и как бы впитали в себя его чистоту.
– Если человек чувствует пространство, – сказал однажды Габуния, – то он уже счастлив. Это – высокое и благородное чувство. Но, к сожалению, оно не так часто навещает нас. А жаль!
И я в десятый раз начал гадать: кто же этот мой собеседник со спокойным, а временами грустным и насмешливым лицом? Поэт, инженер или просто привыкший думать обо всем человек?
Начальник Колхидстроя Нодия со свойственной ему трезвостью считал Габунию чудаком. Он объяснял его чудачества (склонность к философии и поэзии) тем, что Габуния малярик. Эта болотная лихорадка притупляет у человека чувство действительности и вызывает в мыслях некоторый беспорядок.
Но как инженера Нодия очень ценил Габунию за смелость, упорство и находчивость. Все работники Колхидстроя с восхищением говорили о том мужестве, больше похожем на героизм, с которым Габуния спас строительство от разрушения, когда во время ливней вода хлынула на Колхиду с окрестных гор. Но об этом я не могу рассказывать второй раз, так как уже рассказал в своей книге «Колхида».
Однажды я объезжал с Нодией осушительные работы. Мы ездили по Колхиде в старомодной пароконной коляске, так называемом «ландо».
В местечке Натанеби нас застигли проливные дожди. Мы застряли и три дня провели в дощатом тесном доме у приятеля Нодии, старого учителя-мингрела. С утра до ночи стол ломился от еды и вина – от лобии, сациви, жареной рыбы локо, шашлыков, сыра «сулугуни», купатов, глиняных горшочков с тушенным в острых пряностях мясом (пети), от водки «чача» и терпкого лилового вина «Изабелла». Если это вино случайно попадало на руки, то стягивало пальцы. Должно быть, в нем было много винной кислоты.
Все время, свободное от еды, Нодия или спал, или азартно играл с хозяином в нарды.
Мне дали, чтобы я не скучал, растрепанный журнал «Паломник» за 1889 год. Я, лежа на тахте, прочел его почти целиком. Там были статьи о Палестине, о пещере в Вифлееме, где родился Христос, о монастырях на старом Афоне и Синайском полуострове и благочестивые биографии разных седобородых патриархов, митрополитов, экзархов и католикосов.
Когда дожди стихли, мы проехали в Батум, где у Нодии были какие-то важные дела. В Батуме мы заночевали. Нодия остановился у своих друзей, мне же было неловко стеснять чужих людей, и я провел ночь в гостинице. Это, пожалуй, была одна из самых страшных ночей в моей жизни.
Лил тяжелый дождь. Свободных комнат в гостинице не было, а идти под проливным дождем в другую гостиницу мне не хотелось. Администратор гостиницы вел себя странно. Он сказал, что у него, правда, есть одна комната, но он не решается поселить меня в ней.
– Почему? – спросил я.
– Да как сказать, – ответил он нерешительно. – Эта комната не совсем плохая, но… неудобная. Это единственная в гостинице комната на мансарде. Под самой крышей. Лестница очень крутая и узкая, деревянная, и ведет только в одну эту комнату.