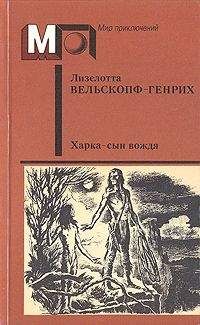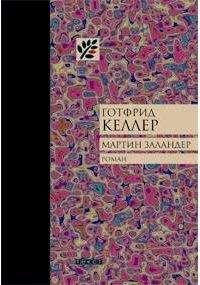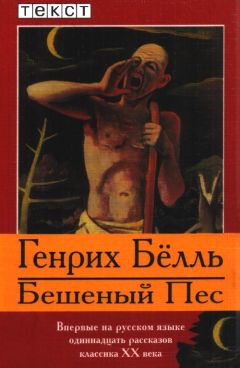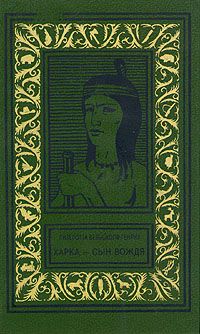Готфрид Келлер - Зеленый Генрих
Вот распахнулись двери, и среди грома звуков появились трубачи и литавристы. Своими рядами они скрывали нараставшее за ними шествие, и пришлось ждать, чтобы они, продвинувшись дальше, дали простор для развертывания пышного строя. За ними шли двое церемониймейстеров с нюрнбергским гербом, орлом на белых и красных полосах, а дальше шагал старшина славного цеха мейстерзингеров[138], легкий и стройный, с большим лиственным венком на голове и золотым жезлом в руке. Дальше шли мейстерзингеры — все в венках и со своим девизом, причем впереди — молодежь, в коротких костюмах, за ней — старики, окружавшие почтенного Ганса Сакса[139] в темной меховой мантии, олицетворение удачно прожитой жизни, с солнечным сиянием вечной юности вокруг седой головы.
Но бюргерская песня была в ту пору так богата и изобильна, что без нее не обходились никакие мастера, и в особенности появившийся теперь цех цирюльников, впереди которых несли бритву и бритвенный тазик. Здесь шагал кровопускатель Ганс Розенблют, автор озорных двустиший, а также геральдических девизов, веселый горбун с огромным клистиром под мышкой. Широкими шагами поспешал за ним длинноногий Ганс Фольц из Вормса[140], знаменитый цирюльник и сочинитель масленичных пьес и шванков — в качестве такового соперник Розенблюта и предшественник Ганса Сакса. Так два брадобрея и сапожник лелеяли молодые ростки немецкой сцены.
Богаты песнями были и все другие цехи, следовавшие теперь каждый в одежде определенного цвета и со своим знаменем: бондари и пивовары, мясники в красном с черным, отороченном лисьим мехом цеховом одеянии, пекари — в сером и белом, восколеи в ласкающих глаз костюмах, где сочетались зеленый, белый и красный цвета, и знаменитые пряничники в светло-коричневом и темно-красном; бессмертные сапожники в черном и зеленом (цвет отчаяния и цвет надежды), пестрые портные. В лице ткачей камчатных материй и ковровщиков появились уже известные мастера более высоких ремесел, ибо они выделывали роскошные ковры и скатерти, украшавшие дома богатых купцов и патрициев.
Все появлявшиеся теперь цехи представляли собой каждый настоящую республику сильных, изобретательных людей ремесла и искусства. Опытность и знание дела распространялись не только на мастеров, но и на подмастерьев, среди которых было немало талантливых парней. Уже токари могли назвать в числе подмастерьев Иеронима Гертнера[141], который с детским благоговением вырезал во славу божию из кусочка дерева вишню, качавшуюся на своем черенке, и сидевшую на ней муху, такую нежную, что ее крылышки и ножки двигались, если дохнуть на нее, но он же был и опытным строителем водопроводов, и создателем замысловатых фонтанов.
Из толпы сменявшихся и мелькавших предо мной персонажей, — почти с каждым из них была связана прелестная легенда, — многие еще живут в моей памяти, и все-таки их запомнилось мало по сравнению с тем, какое их было великое множество. Среди кузнецов, одетых в красное и черное (цвет железа и цвет угля), шагал мастер Мельхиор, уверенной рукой ковавший большие железные кулеврины, среди оружейников — изобретательный подмастерье Ганс Даннер, который уже в те времена гнал с металлов стружки, словно под руками у него было мягкое дерево, и его брат Леонгард, придумавший осадную машину — винт для сокрушения стен. Тут же шел и мастер Вольф Даннер, изобретатель кремневого затвора, а рядом с ним — Бехейм, глава литейщиков. Их блестящие, пышно украшенные орудийные стволы, пушки, картечницы и мортиры снискали себе славу во всем свете.
Один лишь цех шпажников и оружейных дел мастеров охватывал целый многообразный мир искусных работников по металлу. Те, кто ковал мечи, и те, кто выделывал шлемы или латы, — каждый доводил изготовляемую им часть воинского снаряжения до высокого совершенства, постоянно подтверждая этим свое искусство. Строгое разделение но отраслям удивительным образом переходило в свободу и многосторонность, когда простые цеховые мастера вдруг совершали важнейшие изобретения и когда все могли делать всё, часто не умея ни читать, ни писать. Так, слесаря Ганса Бульмана, изготовителя больших часов с планетными системами, и Андреаса Гейнлейна, который их усовершенствовал, а также выделывал столь маленькие часики, что они помещались в набалдашнике трости, и Петера Хеле, подлинного изобретателя карманных часов, — всех их здесь награждали простым и почетным именем слесарных мастеров.
Я еще помню среди резчиков по дереву человечка в плаще на кошачьем меху, Иеронима Реша, друга кошек, в тихой рабочей каморке которого повсюду сидели и мурлыкали эти животные. А сразу же за маленьким черно-серым кошатником я вижу светлую группу чеканщиков серебра в лазурных и розовых одеждах с белой накидкой и золотых дел мастеров, одетых в алое платье с черным камчатным плащом, богато затканным золотом. Перед ними несли серебряные барельефные плиты и золотые чаши. Искусство чеканки смеялось здесь в серебряной колыбели, здесь же были истоки новорожденного искусства гравировки на меди, и оно было обособлено от гравировки на дереве, шедшей об руку с почернелой семьей печатников.
И я вижу еще одного славного человека, легенда о котором меня особенно тронула, Себастьяна Линденаста, шагавшего среди чеканщиков по меди. Медные сосуды и чаши его работы были так искусны и богаты, что император пожаловал ему привилегию золотить свои изделия, — больше никто этого делать не смел. Как прекрасно такое общение между рабочим человеком и главою нации, как прекрасно это исключительное право возвышать простой металл, вследствие благородства приданной ему формы, в достоинство золота!
Возле них я вижу еще Фейта Штоса, человека удивительно противоречивой натуры. Он резал из дерева таких прелестных мадонн и ангелочков и затем так чудесно покрывал их красками и украшал золотистыми волосами и драгоценными камнями, что тогдашние поэты вдохновенно воспели его произведения. При этом он был умеренный и тихий человек, не пил вина и прилежно трудился, создавая все новые благолепные изображения для алтарей. Но по ночам on так же усердно изготовлял фальшивые ассигнации, чтобы умножить свое добро. Когда он попался на этом, ему публично прокололи раскаленным прутом обе щеки. Отнюдь не сломленный таким позором, он спокойно дожил до девяноста пяти лет и занимался, помимо прочего, вырезанием рельефных карт местностей с городами, горами и реками, а также писал красками и гравировал на меди.
А теперь, как совершенный и классический представитель эпохи, показался, под скромным именем литейщика желтой и красной меди, Петер Фишер[142] с пятью сыновьями, мастерами блестящей бронзы. С великолепной курчавой бородой, в круглой фетровой шапочке и кожаном фартуке, он напоминал самого Гефеста[143]. Дружелюбный взор его больших глаз как бы возвещал, что ему удалось усыпальницей Зебальда создать себе нетленный памятник, свидетельство многолетних трудов — озаренное отблеском древней Греции обиталище многих скульптурных фигур, которые в светлом зале охраняют серебряный гроб святого. Так и сам мастер жил со своими пятью сыновьями и со всеми их женами и детьми в одном доме и в одной мастерской, среди блеска новых работ.
Человек, восхищавший меня едва ли в меньшей степени, шагал с отрядом каменщиков и плотников. Это был Георг Вебер, настолько огромный и могучий, что на его серую одежду потребовалось, видимо, очень много локтей сукна. Это был настоящий истребитель лесов. Вместе со своими работниками, которых он подбирал среди таких же рослых и мощных людей, как сам, вместе с этой ратью гигантов он орудовал деревьями и балками так умно и искусно, что не знал себе равных. Он был также упрямый борец за народ и во время Крестьянской войны делал повстанцам пушки из древесных стволов. За это ему в Динкельсбюле должны были отсечь голову. Однако нюрнбергский магистрат освободил его, приняв во внимание его высокое мастерство, и назначил городским плотничьим мастером. Он строил не только красивые и прочные стропила и срубы, но также мельничные постава, подъемные машины, большущие грузовые телеги, и под могучей его черепной коробкой рождались идеи, позволявшие преодолевать любое препятствие и поднимать любую тяжесть. При всем том он не умел ни читать, ни писать.
Так сменялись, представляя целую эпоху, группы выразительнейших фигур, участников подлинной жизни, ушедшей в прошлое, — пока эта часть шествия не закончилась цехом живописцев и скульпторов и появлением Альбрехта Дюрера. Перед ним выступал паж с гербом, где на голубом поле виднелись три маленьких серебряных щита. Этот герб был пожалован Максимилианом великому мастеру как представителю всего мира художеств. Сам Дюрер шел между своим учителем Вольгемутом[144] и Адамом Крафтом[145]. Собственные белокурые локоны исполнителя были разделены пробором посредине и ниспадали на широкие, покрытые пушистым мехом плечи, как на известном автопортрете, и он с изящным достоинством поддерживал торжественность возложенной на него роли.