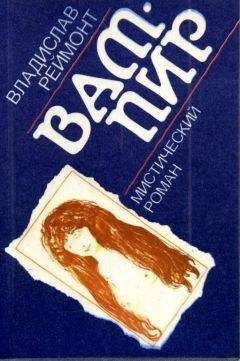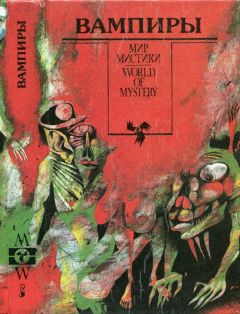Владислав Реймонт - Мужики
— Ишь, как бежит, чуть юбок не потеряла! Сконфузила ты ее: деньги-то ей нужны для Матеуша, а не для мужа.
— Так она с ним водится? — удивилась Ганка.
— Господи, ничего-то ты не знаешь, словно в лесу живешь!
— Откуда же мне знать?
— Да ведь Тереза каждую неделю бегает в город к Матеушу и, как собачонка, целый день караулит у тюрьмы. Носит ему, что только может.
— Побойся бога! У нее свой мужик есть!
— Есть, да далеко, на военной службе, и вернется ли еще, бог весть. Бабенке одной скучно, а Матеуш близко, под рукой, и орел парень! Отчего же ей не побаловаться?
Ганка не отвечала, глубоко задумавшись. Она вспомнила Антека и Ягну…
— А когда Матеуша забрали, она с его сестрой, с Насткой, подружилась, даже живет у них теперь, вместе в город ездят: Настка как будто брата навещать, а больше для того, чтобы Шимек ее не позабыл.
— И все-то ты знаешь!
— Ведь у людей на глазах все делают, глупые, так как же не знать! Вот продает последнюю юбку, чтобы Матеушу праздник справить! — насмешливо отозвалась Ягустинка.
— Ох, ох, чего не бывает на свете!.. И мне надо бы к Антеку съездить.
— Где же в твоем положении в такую дорогу пускаться! Еще расхвораешься… Не может разве Юзька поехать или кто другой?
Ягустинка чуть не назвала Ягну, но вовремя прикусила язык.
— Нет, сама поеду! Бог даст, ничего со мной не случится, Рох говорил, что на праздник будут к нему пускать. Поеду!.. Да вот что, Ягустинка: пора бы окорока переложить!
— Пожалуй, не мешает — третий день солятся. Сейчас пойду.
Она пошла в чулан, но быстро вернулась смущенная и объявила, что половина мяса исчезла.
Ганка бросилась в чулан, за ней — Юзька, и обе в ужасе остановились перед кадкой, теряясь в догадках, куда могло деваться мясо.
— Это не собака: сразу видно, что ножом отрезали… Чужой вор унес бы все, а не два-три фунта… Это Ягусина работа! — решила Ганка и в ярости кинулась в комнату, но Ягны там не было, а старик лежал, как всегда, с широко открытыми глазами.
Тут только Юзька вспомнила, что Ягуся, уходя утром из дому, что-то прятала под передником, — тогда она подумала, что это наряд, который Ягуся шила себе к пасхе вместе с дочкой Бальцерков.
— Значит, к матери унесла… чужое-то слаще, — заметила Ягустинка.
— Юзя! Зови Петрика! Надо все, что осталось, перенести ко мне в чулан, — распорядилась Ганка.
И тотчас все было перенесено, Ганка хотела было заодно передвинуть на свою половину и бочки с зерном, — там ей было бы удобнее поискать деньги, но раздумала: бочек было слишком много, да и об этом мог узнать кузнец.
Весь день она подстерегала приход Ягны и, когда та в сумерках вернулась домой, сразу накинулась на нее.
— Ну, и съела! Оно мое так же, как и ваше! Отрезала кусок и съела! — резко ответила Ягна, и хотя Ганка весь вечер не давала ей покоя, она на все ее наскоки не отзывалась больше ни словом, как будто нарочно дразня ее. Даже ужинать пришла как ни в чем не бывало и с усмешкой смотрела Ганке в глаза. А Ганка, взбешенная тем, что ничего не может с ней поделать, весь вечер срывала злость на остальных, допекая их из-за каждого пустяка, и даже спать отослала всех раньше под тем предлогом, что завтра страстной четверг и надо начинать предпраздничную уборку.
Сама она легла тоже ранее обычного, но долго не могла уснуть и, услышав отчаянный лай собак, вышла во двор. У Ягны еще горела лампа.
— Поздно, нечего керосин жечь, его даром не дают! — крикнула она в сени.
— А жги и ты хоть всю ночь! — отозвалась Ягна из-за двери.
Ганка опять так разозлилась, что задремала только после первых петухов.
А наутро, чуть свет, Юзька, хотя она больше всех любила поспать, первая вскочила с постели, вспомнив, что ей сегодня ехать в город за покупками, и побежала будить Петрика, чтобы он запрягал. Услышав, что Ганка приказывает Петрику запрячь в телегу гнедую, она встала на дыбы.
— Я на досках и слепой кобыле не поеду! — закричала она со слезами. — Нищая я, что ли, чтобы меня в навозной телеге возили? В городе, небось, знают, чья я дочь! Отец ни за что бы этого не позволил!
Она подняла такой шум, что в конце концов добилась своего и поехала в бричке, запряженной парой лошадей, с работником на козлах, как всегда ездили деревенские богачки.
— Красной бумаги купи, и золотой, и всякой, какую только найдешь! — кричал ей Витек с огорода, где он с самой зари разрыхлял землю на грядках, так как Ганка еще сегодня собиралась сажать рассаду. Как только хозяйка надолго уходила в дом, Витек убегал на улицу и вместе с другими мальчишками поднимал страшный шум трещотками под чужими заборами, благо колокола в костеле, как всегда в страстной четверг, рано перестали звонить.
Погода установилась такая же, как вчера, но было как-то тихо и невесело. Ночью похолодало, утро вставало седое от росы, туманное и сырое. Хотя было уже не рано, щебетали ласточки, съежившись на крышах, и громче кричали гуси, выгнанные к озеру. А деревня, как только рассвело, сразу поднялась, и задолго до завтрака уже везде забегали, засуетились бабы. Детей выгнали из хат, чтобы не мешали, и они носились по улицам, стуча колотушками и трещотками.
Даже в костел к обедне (которую служили сегодня без колокольного звона и органа) пошли очень немногие. В эти последние предпраздничные дни пора было приниматься за уборку, а главное — печь хлебы, месить тесто на пироги и на всякие затейливые печения. Почти в каждой избе окна и двери были плотно закрыты, чтобы не остудить теста, в печах бушевал огонь, а из труб шел дым к пасмурному небу.
Голодный скот мычал в хлевах и обгрызал ясли, свиньи залезали в огороды, куры и гуси бродили по улицам, а дети делали все, что хотели, — дрались, лазали на деревья за вороньими гнездами, потому что усмирить их было некому. Все женщины были заняты — месили тесто, лепили караваи, укрывали перинами квашни и миски с тестом, сажали хлебы в печь. Они забыли обо всем на свете и беспокоились только, как бы не получилась закалина в хлебе или не подгорели пироги.
Так было везде — у мельника, у органиста, в плебании, у зажиточных хозяев и у коморников. Каждый бедняк, хотя бы в долг или на последние гроши, считал нужным приготовить себе что-нибудь на разговенье, чтобы этот единственный раз в году, под Светлое воскресенье, поесть вволю и мяса и других вкусных вещей.
Не у всех имелись хлебные печи с подом, и приходилось печь у соседей. Поэтому в садах между хатами непрестанно пробегали девушки с охапками дров, а у озера время от времени появлялись растрепанные, испачканные мукой женщины, которые несли на длинных досках и в корытах сырые булки и пироги, покрытые подушками, — несли так торжественно и осторожно, как хоругви во время крестного хода.
Даже в костеле кипела работа: работник ксендза возил из леса елки, а органист, Рох и Амброжий украшали плащаницу.
На следующий день, в пятницу, суета еще усилилась, и почти никто не заметил сына органиста, Яся, который приехал домой на праздники и прогуливался по деревне, заглядывая в окна, — зайти никуда нельзя было и не с кем было поболтать. Как тут зайдешь, когда все проходы и даже сады заставлены шкафами, кроватями, всякой мебелью, а в хатах спешно белят стены, скребут полы, на крылечках начищают образа.
Везде был галдеж, суматоха, беготня, все подгоняли друг друга и тем поднимали еще больший — шум. Даже малышей заставляли работать — убирать грязь во дворах и посыпать землю желтым песком.
По старому обычаю, на страстной неделе с пятницы до воскресенья не полагалось есть горячего, и все голодали во славу божию, довольствуясь сухим хлебом и печеной картошкой.
Разумеется, и у Борын в эти дни творилось то же, что и в других избах, с той только разницей, что здесь было больше рабочих рук и не так туго с деньгами, поэтому все приготовления закончили скорее.
В пятницу, уже в потемках, Ганка с помощью Петрика кончила белить избу внутри и снаружи и стала поспешно мыться и одеваться, чтобы идти в костел, куда уже направлялись другие бабы.
В печи гудел большой огонь, и на нем в чугунном котле, таком большом, что двоим тяжело было его поднять, тушилась целая свиная нога, вчера наскоро подкопченая, а в котле поменьше шипели колбасы, и по комнате разносился такой аппетитный запах, что Витек, что-то строгавший в углу около детей, только облизывался и вздыхал.
А у печи, в ярком свете огня, сидели рядышком Ягна с Юзей и с увлечением красили яйца. Каждая складывала свои отдельно, чтобы потом похвастаться своим искусством. Ягуся сперва обмывала яйца теплой водой и, вытерев досуха, наводила узор топленым воском, а затем опускала их по очереди в каждый из трех горшочков с кипящей краской. Работа была кропотливая, — то воск местами не держался, то яйца разбивались в руках или лопались во время кипячения, но в конце концов они накрасили штук тридцать и стали показывать их друг другу и хвастать самыми красивыми.