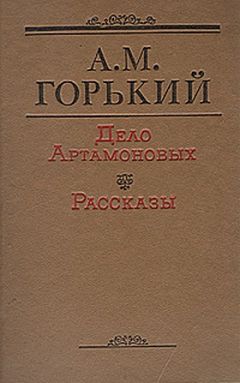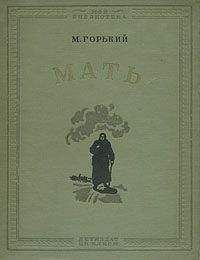Максим Горький - Мать. Дело Артамоновых
— И как я служу вашей пользе, против недругов России…
— Сколько? — спросил Яков.
Носков, не сразу, ответил:
— Тридцать пять рублей.
Яков дал ему деньги и быстро пошел прочь возмущенный, испуганный. «Он меня дураком считает, он думает, что я его боюсь, подлец! Нет, погоди же…»
И теперь, медленно шагая домой, Яков думал лишь о том, как ему избавиться от этого человека, несомненно желающего подвести его, как быка, под топор.
Бесконечно тянулись шумные часы поминок. Люди забавлялись, заставляя дьякона Карцева и певчих возглашать усопшему вечную память. Житейкин напился до того, что, размахивая вилкой, запел неприлично и грозно:
Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они…
Степан Барский, когда его мягкое, точно пуховая подушка, тело втискивали в экипаж, громко похвалил:
— Ну, Петр Ильич, воистину — любил ты брата! Такие поминки долго не забыть!
Яков слышал, как отец, сильно выпивший, ответил угрюмо и насмешливо:
— Ты скоро все забудешь, лопнешь скоро.
Житейкина, Барского, Воропонова и еще несколько человек почтенных горожан отец пригласил сам, против желания Мирона, и Мирон был явно возмущен этим; посидев за поминальным столом не более получаса, он встал и ушел, шагая, как журавль. Вслед за ним незаметно исчезла тетка Ольга, потом скрылся и монах, которому, видимо, надоели расспросы полупьяных людей о монастырской жизни. А отец вел себя так, как будто хотел обидеть всех людей, и все время, до конца поминок, Яков ждал, что вспыхнет ссора между отцом и горожанами.
Мать, оскорбленная тем, что за теткой Ольгой ухаживала Попова, надулась и уехала домой, а отец почему-то пожелал ночевать в кабинете дяди Алексея. Все это казалось Якову нелепо капризным, ненужным и еще более расстраивало его. Пролежав на диване часа два, тщетно ожидая сна, он вышел на двор и под окном кухни на скамье увидал рядом с Тихоном черную фигуру монаха, странно похожего на какую-то сломанную машину. Без клобука на лысой голове монах стал меньше, шире, его заплесневелое лицо казалось детским; он держал в руке стакан, а на скамье, рядом с ним, стояла бутылка кваса.
— Это — кто? — тихонько спросил он и тотчас сам ответил: — Это — Яша. Посиди со стариками, Яша!
И, подняв стакан против луны, посмотрел на мутную влагу в нем. Луна спряталась за колокольней, окутав ее серебряным туманным светом и этим странно выдвинув из теплого сумрака ночи. Над колокольней стояли облака, точно грязные заплаты, неумело вшитые в синий бархат. Нюхая землю, по двору задумчиво ходил любимец Алексея, мордастый пес Кучум; ходил, нюхал землю и вдруг, подняв голову в небо, негромко вопросительно взвизгивал.
— Цыц, Кучум, — вполголоса сказал Тихон.
Собака подошла, сунула толстую башку в колени Тихона и провыла что-то.
— Чувствует, — заметил Яков. Ему не ответили, а он очень хотел говорить, чтоб не думать.
— Понимает, говорю, — настойчиво повторил он, — дворник тихо отозвался:
— А — как же?
— В Суздале монастырская собака воров по запаху узнавала, — вспомнил монах.
— О чем беседуете? — спросил Яков; монах выпил квас, вытер рот рукавом рясы и беззубо заговорил, точно с лестницы идя:
— Тихон вот замечает: опять к мятежу люди склонны. Оно — похоже! Очень задумались все…
— Дела замучили, — вставил Тихон, играя ушами собаки.
— Прогони собаку, — приказал Яков, — блохи от нее.
Дворник снял Кучумовы лапы с колен своих, отодвинул собаку ногой; она, поджав хвост, села и скучно дважды пролаяла. Трое людей посмотрели на нее, и один из них мельком подумал, что, может быть, Тихон и монах гораздо больше жалеют осиротевшую собаку, чем ее хозяина, зарытого в землю.
— Бунт — будет, — сказал Яков и осторожно посмотрел в темные углы двора. — Помнишь, Тихон, арестовали Седова с товарищами?
— А — как же?
Монах вынул из кармана рясы жестяную коробочку, достал из нее щепоть табаку, понюхал и сообщил племяннику:
— Вот, табачок нюхаю. Глазам помогает это, плохо видеть стали.
Чихнув, он продолжал:
— Арестуют даже и в деревнях…
— Шпионы завелись, — сказал Яков, стараясь говорить просто.
— Подсматривают за всеми.
Тихон проворчал:
— Ежели не подсматривать — ничего не узнаешь.
А Яков, нерешительно ворочая языком, пожимаясь от ночной свежести или от страха, говорил почти шепотом:
— И у нас есть. Про Носкова, охотника, нехорошие слухи… Будто он донес на Седова и на всех в городе…
— Ишь ты, дурак, — не сразу отозвался Тихон, протянул руку к собаке, но тотчас опустил ее на колено, а Яков почувствовал, что слова его сказаны напрасно, упали в пустоту, и зачем-то предупредил Тихона:
— Ты, однако, не говори про Носкова.
— Зачем говорить? Он меня некасаемый. Да и некому говорить, никто никому не верит.
— Да, — сказал монах, — веры мало; я после войны с солдатами ранеными говорил, вижу: и солдат войне не верит! Железо, Яша, железо везде, машина! Машина работает, машина поет, говорит! Железному этому заводу жития и люди другие нужны, — железные. Очень многие понимают это, я таких встречал. «Мы, говорят, вам, мякишам, покажем!» А некоторые другие обижаются. Когда человек командует — к этому привыкли, а когда железный металл — обидно! К топору, молотку, ко всему, что в руку взять можно, — привыкли, а тут вещь — сто пудов, однако как живая.
Тихон крякнул и, незнакомо Якову, неслыханно им, — засмеялся, говоря:
— Вперед лошади телега бежит. Эх, черти!
— И многие — обозлились, — продолжал монах очень тихо. — Я три года везде ходил, я видел: ух, как обозлились! А злятся — не туда. Друг против друга злятся; однако — все виноваты, и за ум, и за глупость. Это мне поп Глеб сказал: очень хорошо!
— Поп-то жив? — спросил Тихон.
— Попа — нет, — ответил Никита. — Он расстригся, он теперь по сельским ярмаркам книжками торгует.
— Хороший поп, — сказал Тихон. — Я у него на исповеди бывал. Хорош. Только он притворялся попом из бедности своей, а по-настоящему в бога не верил, так думаю.
— Нет, он — веровал во Христа. Каждый по-своему верует.
— Оттого и смятение, — твердо сказал Тихон и снова нехорошо усмехнулся: — Додумались…
На крыльцо бесшумно вышел Артамонов-старший, босиком, в ночном белье, посмотрел в бледное небо и сказал людям под окном:
— Не спится. Собака мешает. И вы урчите тут…
Собака сидела среди двора, насторожив уши, повизгивая, и смотрела в темную дыру открытого окна, должно быть ожидая, когда хозяин позовет ее.
— А ты, Тихон, все свое долбишь! — заговорил Артамонов. — Вот, Яков, гляди: наткнулся мужик на одну думу — как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?
— Слышал.
— Да. Прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал, а — куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как…
— Алексей божий человек также, — тихо напомнил Никита.
Артамонов-старший поднял руку к виску, помолчал и пошел в сад, сказав Якову:
— Принеси мне в беседку одеяло, подушки, может, я там засну.
Грузный, в белом весь, с растрепанными волосами на голове, с темно-бурым опухшим лицом, он был почти страшен.
— О машинах ты, Никита, зря говорил, — сказал он, остановись среди двора. — Что ты понимаешь в машинах? Твое дело — о боге говорить. Машины не мешают…
Тихон непочтительно, упрямо прервал его речь:
— От машин жить дороже и шуму больше.
Артамонов-старший отмахнулся от него и медленно пошел в сад, а Яков, шагая впереди его с подушками, сердито и уныло думал:
«Родные: отец, дядя, — а зачем они мне? Они помочь не могут».
Отец не пригласил брата жить к себе, монах поселился в доме тетки Ольги, на чердаке, предупредив ее:
— Я немножко поживу, я уйду скоро…
Жил он почти незаметно и, если его не звали вниз, — в комнаты не сходил. Шевырялся в саду, срезывая сухие сучья с деревьев, черепахой ползал по земле, выпалывая сорные травы, сморщивался, подсыхал телом и говорил с людями тихо, точно рассказывая важные тайны. Церковь посещал неохотно, отговариваясь нездоровьем, дома молился мало и говорить о боге не любил, упрямо уклоняясь от таких разговоров.
Яков видел, что монах очень подружился с Ольгой, его уважала бессловесная Вера Попова, и даже Мирон, слушая рассказы дяди о его странствованиях, о людях, не морщился, хотя после смерти отца Мирон стал еще более заносчив, сух, распоряжался по фабрике, как старший, и покрикивал на Якова, точно на служащего.
На расплывшееся, красное лицо Натальи монах смотрел так же ласково, как на все и на всех, но говорил с нею меньше, чем с другими, да и сама она постепенно разучивалась говорить, только дышала. Ее отупевшие глаза остановились, лишь изредка в их мутном взгляде вспыхивала тревога о здоровье мужа, страх пред Мироном и любовная радость при виде толстенького, солидного Якова. С Тихоном монах был в чем-то не согласен, они ворчали друг на друга, и хотя не спорили, но оба ходили мимо друг друга, точно двое слепых.