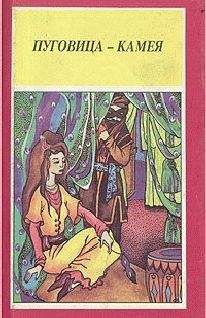Бальтасар Грасиан - Критикон
И, выпалив это, одним залпом разрешив спор, он выбежал из зала.
– Довольно спорить, – признались все, – вот и пришлось нам выслушать истину от дурака.
И в подтверждение его слов Маркарди сказал так:
– Да, господа, на небе все – блаженство; в аду все – несчастье. На земле же, на этой средине меж двух крайностей, есть и то и другое: горе перемешано со счастьем, беды чередуются с радостями; где отступит веселье, туда ступит нога печали. За добрыми вестями идут дурные; луна, могучая правительница подлунной, то прибывает, то убывает; за удачей следует невезение, почему и устрашился Филипп Македонский [709], получив три радостных известия кряду. Сказал же мудрец: время смеяться и время плакать [710]. Нынче день хмурый, завтра погожий, море то спокойно, то бурно; за худой войной добрый мир; стало быть, нет чистых радостей, только разбавленные, такими и пьем их все мы. Не тщитесь найти блаженство в жизни сей, в непрестанной сей борьбе на лице земли. Нет здесь блаженства – и поделом! Ведь даже и так, когда все полно горестей, когда жизнь нашу осаждают беды, никакой силой не оторвешь людей от лона подлой сей кормилицы, пренебрегают они объятьями небесной матери, царицы нашей. А кабы все вокруг было удовольствием и наслаждением, радостью и блаженством?
Выслушав сие, оба наших странника, Критило и Андренио, уразумели истину, с ними и все вокруг. А придворный добавил:
– Напрасно, о, странники по миру, путники по жизни, утруждаете вы себя от колыбели до могилы поисками воображаемой вашей Фелисинды, той, что один зовет супругой, а другой – матерью; она умерла для мира и живет для небес. Там обретете ее, коль заслужите сие на земле.
На том завершилось ученое заседание, и все разошлись, прозрев, хотя и поздно, как обычно в мире бывает. Придворный предложил нашим странникам осмотреть хоть немногое из многих достопримечательностей Рима.
– Самое удивительное для нас, – говорили странники, – и самое примечательное – это видеть столько личностей; обошли мы весь свет и смеем свидетельствовать, что нигде столько не видели.
– Как это вы говорите, что обошли весь свет, побывав только в четырех странах Европы?
– О, очень просто, – отвечал Критило, – сейчас объясню. Ведь и в доме не называют его частями конюшни, где стоят лошади, и не берут в расчет хлевы для скота; так и большая часть мира – это всего лишь хлевы, где живут люди непросвещенные, народы варварские и дикие, не знающие государственного порядка, культуры, наук и искусств, это края, населенные поганью еретической, людьми, которых личностями никак не назовешь, но скорее зверями лесными.
– Погоди, – сказал Придворный, – раз уж мы коснулись сего предмета, что скажете вы, повидавшие самые политичные страны мира, о нашей культурной Италии?
– Ты сам определил ее словом «культурная» – что равнозначно нарядная, учтивая, политичная и разумная, во всех смыслах совершенная. Ибо надо признать, что Испания доныне пребывает все в том же виде, какою бог ее сотворил, и тамошние обитатели ни в чем ее не улучшили, поли не считать того, что соорудили римляне; горы и ныне столь же неприступны и бесплодны, как в первые дни творенья; реки несудоходны и текут по тем же руслам, какие проложила им Природа; поля лежат пустырями, и для их орошения не прорыты каналы; земли не возделаны; короче, там не приложило руку трудолюбие. Италия, напротив, настолько изменилась и улучшилась, что первые ее обитатели, кабы пришли теперь, ее бы не узнали: горы выравнены и превращены в сады, реки су доходны, озера – садки, полные рыбы, на морских побережьях выросли дивные города с молами и гаванями; все города, как на подбор, славятся нарядными зданиями, храмами, дворцами и замками, площади украшены фонтанами и бассейнами; деревни – сады Элизиума; словом, в одном итальянском городе больше есть чем полюбоваться и насладиться, нежели в целой области другой страны. Италия – разумная мать наук и искусств. Все они тут достигли зрелости и почета: политика, поэзия, история, философия, риторика, ученость, красноречие, музыка, живопись, зодчество, ваяние, и в каждом из искусств есть мастера предивные. Потому-то, наверно, и рассказывают, что, когда богини делили меж собою страны мира, Юнона избрала Испанию, Беллона – Францию, Прозерпина – Англию, Церера – Сицилию, Венера – Кипр, а Минерва – Италию. Здесь процветает изящная словесность, которой в помощь самый нежный, богатый и выразительный язык; видно, поэтому в забавной комедии, которую представляли в Риме, о грехопадении наших прародителей, Отец Извечный говорил по-немецки, Адам по-итальянски, lo mio signore [711], Ева по-французски, oui, monsieur [712], а дьявол бранился и божился на испанском. Итальянцы превосходят испанцев в акциденциях, а французов – в субстанции; они не столь низки, как последние, и не столь высокомерны, как первые; они не уступают испанцам в воображении и превосходят французов здравым суждением, являя похвальную середину меж двумя сими нациями. И ежели бы Индии да попали в руки к итальянцам, то-то они бы там поживились! Италия расположена посреди других стран Европы, увенчана ими, словно королева, и свита у нее подобающая: Генуя служит казначейшей, Сицилия – кладовщицей, Ломбардия – виночерпием, Неаполь – оружейником, Флоренция – камеристкой, Лациум – мажордомом, Венеция – нянькой, Модена, Мантуя, Лукка и Парма – фрейлинами и Рим – наставником.
– Одно только мне не нравится в ней, – сказал Андренио.
– Только одно? – спросил Придворный. – И что же?
Андренио медлил с ответом, предлагая Придворному угадать самому. Он искусно разжигал любопытство, а тот все допытывался:
– Не то ли, что она порочна? Но это оттого, что она прелестна.
– Нет, не это.
– Не то ли, что в ней еще пахнет язычеством, даже в именах – Сципионы да Помпеи, Цезари да Александры, Юлии да Лукреции, – что здесь, под стать идолопоклонникам, обожают древние статуи, что итальянцы верят в приметы и прорицания? Все это, разумеется, наследие язычества.
– Нет, и не это.
– Так что же? Может быть, то, что Италия так раздроблена, изрублена, как фарш, на владения многих князей и князьков, из-за чего вся ее политика бесплодна и государственный ум пропадает втуне?
– И не это.
– Помилуй бог, что же, в конце-то концов? Не то ли, что она – открытое поле для чужеземцев, ристалище для драк испанцев и французов?
– Э нет, вовсе не это!
– Может, то, что она – мастерица на всякие вымыслы и химеры? Но и это унаследовано от Греции и Лациума – вместе с властью над миром.
– Ни то, ни другое.
– Что же? Я сдаюсь.
– Что? Да то, что в ней столько итальянцев. Не будь этого, Италия была бы, бесспорно, лучшей страной в мире. И это вполне очевидно – ведь Рим, где собрались все нации, куда приятней. Потому говорят, что Рим – это не Италия, не Испания и не Франция, но соединение их всех. Превосходный город, чтобы в нем жить, но не умирать. Говорят, в нем полно мертвых праведников и живых дьяволов. Пристанище паломников и всяческих редкостей, собрание диковин и чудес неслыханных и невиданных. Поистине, тут да один день переживешь больше, чем в других городах за целый год, потому что наслаждаешься всем наилучшим.
– Мне уже давно хочется понять одну загадку Италии, – сказал Критило.
– Какую же? – спросил Придворный.
– Сейчас скажу. Всем известно, что французы – ее губители, что они не дают ей покоя, терзают, топчут, грабят, каждый год всю переворачивают, что они – сущий ее бич, меж тем как испанцы ее обогащают, прославляют, поддерживают в ней мир и порядок, относятся к ней с почтением, являясь некими Атлантами Римской Католической Церкви. В чем же причина, что итальянцы по французам помирают, души в них не чают, писатели их хвалят и поэты прославляют, а вот испанцев ненавидят, терпеть не могут и говорят о них только дурное?
– О, ты затронул важный предмет, – сказал Придворный. – Не знаю, право, как бы получше объяснить. Скажи, не случалось ли тебе видеть, что преданного супруга, который жену уважает и ценит, кормит, одевает и украшает, жена ненавидит, зато сохнет от любви к негодяю, который ежедневно потчует ее пощечинами да пинками, колотит и обирает, раздевает и тиранит?
– О да.
– Вот и примени сам это сравнение.
Но стало уже смеркаться, и нельзя было осматривать чудеса и диковины – пришлось дать передышку неуемной любознательности до следующего дня.
– Завтра, – сказал им Придворный, – приглашаю вас обозреть не только Рим, но сразу весь мир, с некоей высоты, откуда все видно. Увидите не только этот век, нашу эру, но также грядущие.
– Да что ты говоришь, любезный друг? – удивился Андренио. – Ты что, призываешь нас в иной мир и в иной век?
– Вот именно – увидите все, что происходит и что произойдет.
– Чудесное дело и чудесный будет день!
Кто пожелает им насладиться, пусть встанет пораньше в следующем кризисе.