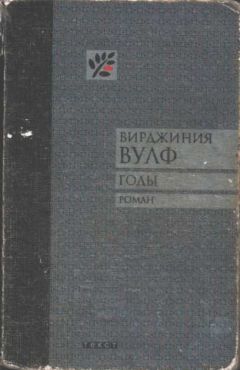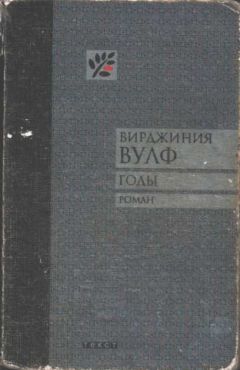Вирджиния Вулф - По морю прочь
Говоря, он выдвигал ящики и доставал стеклянные баночки. В них содержались сокровища, которыми одарил его великий океан — бледные рыбы в зеленоватых растворах, сгустки студня со струящимися щупальцами, глубоководные рыбины с фонариками на головах.
— Они плавали среди костей, — вздохнула Кларисса.
— Вы вспомнили Шекспира, — сказал мистер Грайс, снял томик с полки, тесно уставленной книгами, и прочитал гнусаво и многозначительно:
— «Отец твой спит на дне морском…»[15] Душа-человек был Шекспир, — добавил он, ставя книжку на место.
Клариссу это заявление обрадовало.
— Какая у вас любимая пьеса? Интересно, та же, что у меня?
— «Генрих Пятый», — ответил мистер Грайс.
— Надо же! — вскрикнула Кларисса. — Та же!
В «Гамлете» мистер Грайс видел слишком много самоанализа, сонеты были для него слишком страстными, зато Генриха Пятого он считал за образец английского джентльмена. Однако больше всего он любил Гексли, Герберта Спенсера и Генри Джорджа[16], тогда как Эмерсона и Томаса Харди читал для отдыха. Он принялся высказывать миссис Дэллоуэй свои взгляды на нынешнее состояние Англии, но тут колокол так властно позвал на завтрак, что ей пришлось удалиться, с обещанием прийти опять и посмотреть его коллекцию водорослей.
Компания людей, показавшихся ей такими нелепыми накануне, уже собралась за столом, сон еще не совсем отпустил их, поэтому они были необщительны. Впрочем, появление Клариссы заставило всех чуть встрепенуться, как от дуновения ветерка.
— У меня сейчас была интереснейшая беседа! — воскликнула она, садясь рядом с Уиллоуби. — Вы знаете, что один из ваших подчиненных — философ и поэт?
— Человек он очень интересный — я всегда это говорил, — отозвался Уиллоуби, поняв, что речь идет о мистере Грайсе. — Хотя Рэчел считает его занудой.
— Он и есть зануда, когда рассуждает о течениях, — сказала Рэчел. Ее глаза были полны сна, но миссис Дэллоуэй все равно казалась ей восхитительной.
— Еще ни разу в жизни не встречала зануду! — заявила Кларисса.
— А по-моему, в мире их полно! — воскликнула Хелен, но ее красота, которая лучилась в утреннем свете, противоречила ее словам.
— Я считаю, что человек не может отозваться о человеке хуже, — сказала Кларисса. — Насколько лучше быть убийцей, чем занудой! — добавила она со своей характерной многозначительностью. — Я могу представить, как можно симпатизировать убийце. С собаками — то же самое. Некоторые собаки — такие зануды, бедняжки.
Рядом с Рэчел сидел Ричард. Его присутствие, его внешность вызывали у нее странное ощущение — ладно скроенная одежда, похрустывающая манишка, манжеты, перехваченные синими кольцами, очень чистые пальцы с квадратными кончиками, перстень с красным камнем на левом мизинце…
— У нас была собака-зануда, которая сознавала это, — сказал он, обращаясь к Рэчел прохладно-непринужденным тоном. — Скайтерьер — знаете, они такие длинные, с маленькими лапками, которые выглядывают из-под шерсти. На гусениц похожи — нет, скорее, на диванчики. Одновременно мы держали и другую собаку, черного живого пса. Кажется, эта порода называется шипперке. Большего контраста представить невозможно. Скайтерьер был медлителен, нетороплив, как престарелый джентльмен в клубе, будто говорил: «Неужели вы это серьезно?» А шипперке был стремителен, как нож. Признаюсь, мне скайтерьер нравился больше. В нем чувствовался какой-то пафос.
В рассказе вроде не было изюминки.
— И что с ним стало? — спросила Рэчел.
— Это очень печальная история, — тихо сказал Ричард, очищая яблоко. — Моя жена поехала на автомобиле, он увязался за ней и был сбит жестоким велосипедистом.
— Он погиб? — спросила Рэчел.
Но это уже расслышала на своем конце стола Кларисса.
— Не говорите об этом! — закричала она. — Я до сих пор не могу об этом вспоминать.
Неужели в ее глазах действительно показались слезы?
— Это самое печальное в домашних животных, — сказал мистер Дэллоуэй. — Они умирают. Первым горем, которое я помню, была смерть сони. С прискорбием должен признаться, что я на нее сел. Хотя это печали вовсе не убавляет. «Здесь покоится утка, на которую Сэмюэл Джонсон сел»[17], помните? Я был крупным мальчиком. Потом были канарейки, — продолжил он, — пара вяхирей, лемур, однажды даже ласточка.
— Вы жили за городом? — спросила Рэчел.
— Мы жили за городом по шесть месяцев в году. Мы — это четыре сестры, брат и я. Нет ничего лучше, чем расти в большой семье. Особенную радость доставляют сестры.
— Дик, тебя страшно баловали! — прокричала Кларисса через стол.
— Нет, нет, ценили, — возразил Ричард.
У Рэчел на языке вертелись вопросы совсем о другом, точнее — один большой вопрос, хотя она не знала, как облечь его в слова. И беседа казалась для этого вопроса слишком легковесной.
«Пожалуйста, расскажите мне — всё!» — вот, что она хотела бы сказать. Ричард будто лишь чуть-чуть отодвинул занавес и показал ей изумительные сокровища. Ей казалось невероятным, чтобы такой человек пожелал говорить с ней. У него были сестры, домашние животные, когда-то он жил за городом. Она все размешивала и размешивала чай в своей чашке. Пузырьки кружились и собирались стайками, и ей представилось, что они олицетворяют родство человеческих душ.
Тем временем нить беседы ускользнула от нее, и, когда Ричард вдруг шутливо произнес:
— Я уверен, что мисс Винрэс тайно тяготеет к католицизму, — она понятия не имела, что ответить, а Хелен не удержалась от смешка над тем, как она вздрогнула.
Однако завтрак был окончен, и миссис Дэллоуэй поднялась.
— Мне всегда казалось, что религия подобна коллекционированию жуков, — сказала она, подводя итог дискуссии, когда поднималась по лестнице вместе с Хелен. — Одному черные жуки нравятся, другому — нет, а спорить об этом без толку. Какой черный жук есть у вас?
— Наверное, мои дети, — сказала Хелен.
— Ах, это совсем другое, — возразила Кларисса с придыханием. — Расскажите. У вас мальчик, да? Разве не ужасно оставлять их?
Будто синяя тень легла на озеро. Их глаза стали глубже, голоса потеплели.
Рэчел не стала вместе с ними прогуливаться по палубе: благополучные матроны возмутили ее — она вдруг почувствовала себя сиротой, не допущенной к их миру. Рэчел резко повернулась и пошла прочь. Хлопнув дверью своей каюты, она достала ноты. Они были старые — Бах и Бетховен, Моцарт и Перселл — пожелтевшие страницы, с шероховатыми на ощупь гравюрами. Через три минуты она погрузилась в очень трудную, очень классическую фугу ля мажор, а ее лицо приняло странное выражение, в котором смешивались отрешенность, волнение и удовлетворенность. Иногда она и запиналась, и сбивалась, так что ей приходилось проигрывать один такт дважды, но все же ноты были как будто пронизаны незримой нитью, из которой рождались форма и общая конструкция. Совсем не легко было понять, как эти звуки должны сочетаться между собой, работа требовала от Рэчел напряжения всех ее способностей, и она была поглощена ею настолько, что не услышала стука. Дверь распахнулась, в каюту вошла миссис Дэллоуэй. Она не затворила за собой дверь, и в проеме были видны кусок белой палубы и синего моря. Конструкция фуги рухнула.
— Не позволяйте мне мешать вам! — взмолилась Кларисса. — Я услышала вашу игру и не смогла устоять. Обожаю Баха!
Рэчел покраснела и неловко сложила руки на коленях, а затем так же неловко встала.
— Слишком трудная, — сказала она.
— Но вы играли блистательно! Зря я вошла.
— Нет, — сказала Рэчел.
Она убрала с кресла «Письма» Каупера и «Грозовой перевал»[18], тем самым приглашая Клариссу сесть.
— Какая милая комнатка! — сказала та, осматриваясь. — О, «Письма» Каупера! Никогда не читала. Как они?
— Довольно скучны, — сказала Рэчел.
— Но писал он ужасно хорошо, правда? — спросила Кларисса. — Для тех, кто это любит, — как он заканчивал фразы и все такое. «Грозовой перевал»! Вот это мне ближе. Я жить не могу без сестер Бронте! Вы их любите? Хотя, вообще-то мне легче было бы прожить без них, чем без Джейн Остен.
Она говорила вроде бы вполне беспечно, первое, что придет в голову, но сама ее манера выражала огромную симпатию и желание подружиться.
— Джейн Остен? Не люблю Джейн Остен, — сказала Рэчел.
— Вы чудовище! — воскликнула Кларисса. — Могу лишь простить вас. Скажите почему?
— Она такая… Она похожа на туго заплетенную косу, — с трудом нашла слова Рэчел.
— А, понимаю, о чем вы. Но я не согласна. И вы измените мнение с возрастом. В ваши годы я любила только Шелли. Помню, как рыдала над ним в саду.
Он выше нашей ночи заблужденья;
Терзанья, зависть, клевета, вражда…
Помните?