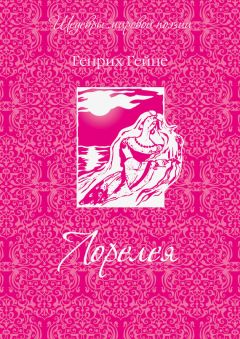Генрих Гейне - Путешествие от Мюнхена до Генуи
ГЛАВА XXIV
О веронском амфитеатре говорили многие; там довольно места для размышлений, и нет таких размышлений, которые не вместились бы в круг этого знаменитого сооружения. Выстроено оно именно в том строго деловитом стиле, красота которого определяется совершенной прочностью, и, подобно всем общественным римским зданиям, свидетельствует о духе, являющем не что иное, как дух самого Рима. А Рим? Найдется ли человек настолько невежественно-здоровый, чтобы сердце его не затрепетало втайне при этом имени и чтобы ум его не испытал обычного в таком случае традиционного потрясения? Что касается меня, то, признаюсь, я почувствовал больше тревоги, чем радости, при мысли, что скоро буду бродить по земле древнего Рима. «Ведь древний Рим теперь мертв, — успокаивал я мою трепетную душу, — и тебе выпала отрадная участь обозревать, не подвергаясь опасности, его прекрасные останки». Но вслед за тем опять возникали во мне фальстафовскме страхи[82]: что, если он не совсем еще мертв, а только притворяется и восстанет вновь, — ведь это было бы ужасно!
Когда я посетил амфитеатр, там разыгрывали комедию: посредине арены, на маленькой деревянной эстраде, ставили итальянский фарс, и зрители сидели под открытым небом, частью на низеньких стульях, частью на высоких каменных скамьях старого амфитеатра. Сидел здесь и я и смотрел на шуточные схватки Бригеллы и Тартальи на том самом месте, где сидели когда-то римляне, созерцая своих гладиаторов и травлю зверей. Небо надо мною, эта голубая хрустальная чаша, было то же, что и над ними. Понемногу смеркалось, загорались звезды, Труффальдино смеялся, Смеральдина сокрушалась[83], наконец явился Панталоне и соединил их руки. Публика зааплодировала и в полном восторге разошлась. Вся игра не стоила ни одной капли крови. Но это и была только игра. А римские игры не были играми. Те люди никак не могли удовольствоваться одной только видимостью, им для этого недоставало детской душевной ясности, а та серьезность, которая им была свойственна, в своем чистейшем и самом кровавом виде проявлялась в их играх. Они не были великими людьми, но благодаря своему положению были выше других земных существ, ибо им опорой служил Рим. Стоило им сойти с семи холмов[84], и они превращались в мелкоту. Отсюда и та мелкость, с которой мы сталкиваемся в их частной жизни. Геркуланум и Помпея[85], эти палимпсесты природы[86], где теперь из-под земли выкапывают старые каменные тексты, являют глазам путешественников частную жизнь римлян, протекавшую в маленьких домиках с крохотными комнатушками, которые составляют такой резкий контраст с колоссальными постройками как выражением общественной жизни, с театрами, водопроводами, колодцами, дорогами, мостами, развалины которых и до сих пор вызывают изумление. Но в том-то все и дело: подобно тому как греки велики идеей искусства, евреи — идеей единого всесвятого бога, так римляне велики идеей их вечного Рима, велики повсюду, где они, воодушевленные этой идеей, сражались, писали и строили. Чем более разрастался Рим, тем более расширялась эта идея, отдельные единицы терялись в ней, великие люди, еще возвышающиеся над другими, держатся только ею, и ничтожество малых становится благодаря ей еще заметнее. Потому-то римляне были одновременно героями и в то же время величайшими сатириками, героями — когда они действовали, думая о Риме, и сатириками — когда они думали о Риме, осуждая действия соотечественников. Даже и крупнейшая личность должна была казаться ничтожной, когда к ней применялась идея такого необъятного масштаба, как идея Рима, и становилась жертвой сатиры. Тацит — самый жестокий мастер сатиры именно потому, что он глубже других чувствовал величие Рима и ничтожество людей. Он чувствует себя в своей стихии всякий раз, когда может сообщить, что передавали на форуме злые языки о какой-нибудь низости императора; он злобно счастлив, когда может рассказать о скандале с каким-нибудь сенатором, например, о неудачной лести.
Я долго еще разгуливал по верхним скамьям амфитеатра, погруженный в мысли о прошлом. Так как все здания наиболее ясно при вечернем свете проявляют свойства живущего в них духа, то и эти стены рассказали мне на своем отрывочном, лапидарном языке[87] о вещах, исполненных глубокой значительности, они поведали мне о муках древнего Рима, и мне казалось, что я вижу, как бродят эти белые тени, внизу подо мною, в темном цирке. Казалось, я вижу Гракхов[88] и их вдохновенные глаза мучеников. «Тиберий Семпроний, — воскликнул я, — я вместе с тобой подам мой голос за аграрный закон!» Увидел я и Цезаря, он шел рука об руку с Марком Брутом. «Вы помирились?» — вскричал я. «Мы оба считали себя правыми, — засмеялся Цезарь, — я не знал, что существует еще один римлянин, и считал себя вправе упрятать Рим в карман, а так как сын мой Марк оказался таким же римлянином, то он счел себя вправе убить меня за это». Позади их обоих скользил Тиберий Нерон, с расплывающимися ногами и неопределенным выражением лица. Видел я и женщин, бродивших там, и среди них Агриппину, с этим прекрасным лицом, властолюбивым и вызывающим странное сострадание, как лицо древней мраморной статуи, в чертах которой словно окаменела скорбь[89]. «Кого ищешь ты, дочь Германика?» Уже я слышал ее жалобы — но вдруг раздался глухой звон молитвенного колокола и отвратительный барабанный бой вечерней зори. Гордые духи Рима исчезли, и я снова очутился в христианско-австрийской современности.
ГЛАВА XXV
Когда стемнеет, высший свет Вероны прогуливается по площади Ла-Бра или восседает там на маленьких стульчиках перед кофейнями, наслаждаясь шербетом, вечерней прохладой и музыкой. Там хорошо посидеть; мечтательное сердце убаюкивается сладостными звуками и само звучит им в лад. Порою, когда загремят трубы, оно внезапно очнется от упоительной дремоты и вторит всему оркестру. Солнечная бодрость пронизывает душу, пышным цветом распускаются чувства и воспоминания, раскрывая глубокие черные глаза, и поверх всего, точно облака, проплывают мысли, гордые, медлительные, вечные.
Я бродил далеко за полночь по улицам Вероны, постепенно пустевшим и удивительно гулким. При свете полумесяца обрисовывались здания с их статуями, и мраморные лики, бледные и скорбные, порой бросали на меня взгляд. Я торопливо прошел мимо гробниц Скалигеров[90]: мне показалось, что Кангранде[91], со свойственною ему по отношению к поэтам любезностью, хочет сойти с коня и сопровождать меня. «Оставайся, сиди, — крикнул я ему, — мне не нужно тебя, мое сердце — лучший чичероне, и оно повсюду рассказывает мне об историях, случившихся в домах, рассказывает точно, во всех подробностях, вплоть до имен и годов!»
Когда я подошел к римской Триумфальной арке, оттуда выскользнул черный монах, и вдалеке раздалось ворчливое немецкое: «Кто идет?» — «Свои», — пропищал чей-то самодовольный дискант.
Но какой женщине принадлежал голос, так зловеще и сладостно проникший мне в душу, когда я поднимался по Scala Mazzanti? Словно песня рвалась из груди умирающего соловья, полная предсмертной нежности и как бы молящая о помощи; каменные дома своим эхом повторили ее. На этом месте Антонио делла Скала[92] убил своего брата Бартоломее, когда тот шел к возлюбленной. Сердце говорило мне, что она все еще сидит в своей комнате, ждет возлюбленного и поет, лишь бы заглушить страшное предчувствие. Но вскоре песня и голос показались мне такими знакомыми; я уже и прежде слышал эти бархатные, страстные, истекающие кровью звуки; они охватили меня, словно нежные, полные мольбы воспоминания. «Глупое сердце, — сказал я сам себе, — разве ты не знаешь песню о больном мавританском короле, которую так часто пела покойная Мария? А самый голос — разве ты забыл голос покойной Марии?»
Протяжные звуки преследовали меня по всем улицам вплоть до гостиницы «Due Torre»[93], вплоть до моей спальни, вплоть до сновидений, — и я опять увидел мою бесценную усопшую, увидел ее прекрасной и недвижной; сторожившая гроб старуха опять удалилась, искоса бросив загадочный взгляд; ночная фиалка благоухала; я опять поцеловал милые уста, и дорогая покойница медленно поднялась, чтобы возвратить мне поцелуй.
ГЛАВА XXVI
Ты знаешь край[94]? Цветут лимоны в нем.
Ты знаешь эту песню? Вся Италия изображена в ней, но изображена в томящих тонах страсти. В «Итальянском путешествии» Гете воспел ее несколько подробнее, а Гете пишет всегда, имея оригинал перед глазами, и можно вполне положиться на верность контуров и красок. Потому-то я и нахожу уместным сослаться здесь, раз и навсегда, на «Итальянское путешествие» Гете — тем более, что до Вероны он ехал тем же путем, через Тироль. Я уже прежде говорил об этой книге, еще не будучи знаком с ее предметом, и нахожу, что мои суждения, основанные на предчувствии, вполне подтверждаются. В книге этой мы повсюду видим реальное понимание вещей и спокойствие самой природы. Гете держит перед нею зеркало, или — лучше сказать — он сам зеркало природы. Природа пожелала узнать, как она выглядит, и создала Гете. Он умеет отражать даже мысли ее, ее намерения, и пылкому гетеанцу нельзя поставить в упрек — особенно в жаркие летние дни — то обстоятельство, что он, изумясь тождеству отражений и оригиналов, приписывает зеркалу творческую силу, способность создавать такие же оригиналы. Некий господин Эккерман[95] написал как-то книгу о Гете, где совершенно серьезно уверяет, что, если бы господь бог при сотворении мира сказал Гете: «Дорогой Гете, я, слава богу, покончил теперь со всем, кроме птиц и деревьев, и ты сделал бы мне большое одолжение, если бы согласился создать за меня эту мелочь», — то Гете, не хуже самого господа бога, сотворил бы этих птиц и эти деревья, в духе полного соответствия со всем мирозданием, а именно — птиц создал бы пернатыми, а деревья зелеными.