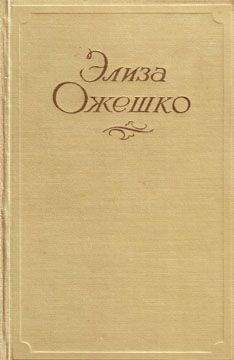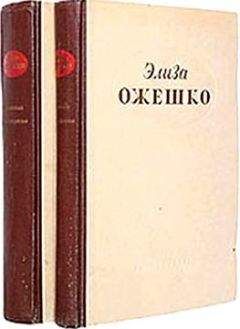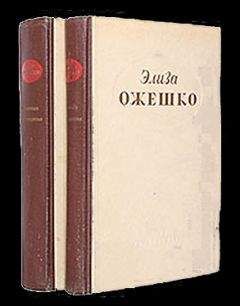Элиза Ожешко - Прерванная идиллия
Он, тоже взволнованный, скоро возвратился к своему обычному спокойствию и, садясь рядом с нею, сказал:
— А теперь забудем о всех домашних и других невзгодах, обо всем недобром, ничтожном, причиняющем боль, и пойдемте в лучший мир!
Голосом, чрезвычайно богатым оттенками, которыми он умело пользовался, он стал читать:
Она ушла, как некий сон чудесный, —
Я гибну в горе, вяну я в печали…
Зачем душа со дна юдоли тесной
Не улетает в ангельские дали
К ограде рая непоколебимой,
За ней, спасенной, — к ней, многолюбимой?..
Проходили минуты… Золотые и румяные листья падали с деревьев; косые полосы света за деревьями все укорачивались, золотые колечки на темной земле все уменьшались и исчезали. Клара перестала шить. С искрившимися золотом глазами, опустив руки на колени, она слушала.
А он читал:
Кадильницей, душистым мирром полной,
Она в ответ невольно запылала:
Лазурь очей темней и глубже стала,
И выше груди белоснежной волны…
Дыхание ее ускорялось. Что это, сон?.. Или она умерла и уже в раю? От букета цветов, лежавшего рядом с ней, разливался аромат. А прекрасный взволнованный голос читал:
Есть миг, когда еще не всходит месяц,
Когда смолкают соловьи по чащам.
Проходит дрожь по листьям шелестящим,
И тишиной вечерней дышат веси…
Листья бесшумно падали с деревьев… Аллея дышала покоем и погружалась в сумрак. Он читал:
Ах, в этот миг два сердца бьются томно, —
И если есть им что прощать — прощают,
Есть что забыть — всем сердцем забывают…
Проходили минуты… Поэма приближалась к концу.
Обольщенная другим, возлюбленная исчезла «как сон золотой»; влюбленный, веривший, что она «вышла из радуги», так жаловался на утрату ее:
И в плеске струй и в песне соловьиной
Я слышу весть о ней, моей желанной,
И вновь молю о смерти долгожданной…
Читая, он отвел глаза от книги и взглянул в лицо девушки. На ее искрившихся золотом и неподвижных глазах выступили две слезы и повисли на ресницах. Медленным движением он протянул к ней руку и закрыл своею ладонью ее маленькую ручку, которой она не отняла, — и две слезы, сорвавшись с ее ресниц, упали на щеки, подернутые румянцем, будто розовым облачком.
— Это слезы страдания или счастья? — очень тихо спросил он.
После минутного молчания она чуть слышно шепнула:
— Счастья!..
Она была полна невыразимого счастья, с которым как-то странно сочеталось страдание; но она почувствовала теперь, что ее стан обнимает осторожная рука, и очнулась. К чувству счастья и боли примешалось чувство стыда, такое сильное, что заглушило их.
Она испуганно отодвинулась на самый край скамейки и, не поднимая глаз, стала торопливо, беспорядочно собирать в корзинку кисею и кружева.
— Мне пора домой, — шепнула она.
Он сидел, наклонившись вперед, опираясь локтями о колени и закрыв руками свое тоже сильно покрасневшее лицо. Его тонкие ноздри быстро раздувались и сжимались, а рука судорожно комкала книгу.
Это продолжалось недолго; он овладел собою и снова положил свою ладонь на ее руку, но на этот раз сильным, почти властным движением.
— Не уходите, мы еще не дочитали поэму.
Впервые голос его зазвучал деспотически. Не снимая своей ладони с ее руки и глядя в землю, он задумался, слегка покусывая нижнюю губу. Спустя минуту он отнял руку и уже мягче проговорил:
— Мне слышится мелодия, которая, по сравнению с этой чудной поэмой «В Швейцарии», звучит как скрежет зубный среди ангельского пения. Что же делать? Узнайте и вы эту мелодию… Мы вместе слушали ангельское пение и вместе услышим и этот скрежет. Почему только я один должен его слышать?..
Его рот иронически искривился, морщина между бровями стала очень глубокой. После минутного молчания он продолжал:
— Несколько дней тому назад я нашел в комнате моего друга польский перевод любовных песен Гейне. Я никогда не читал их раньше в переводе. Из любопытства я стал перелистывать книгу, читать… Очень изящный перевод, очень изящный… У меня хорошая память, я запомнил несколько стихотворений. Одно из них я читал вам вчера, другое — прочту сейчас. Слушайте внимательно!
Согнувшись, подперев лицо рукою и не сводя глаз с ее лица, он медленно-медленно стал декламировать песенку Гейне:
Любили они, но признанья
Из них ни один не хотел.
Их взоры были враждебны,
А в душах огонь пламенел.
Расстались они, лишь порою
В сновиденье встречаясь ночном.
Давно они умерли оба,
Едва ли зная о том.
— Заметьте: они «любили безумно друг друга и умерли в разлуке, даже не зная друг о друге» — именно оттого, что они «очень чтили друг друга». Вот вам скрежет и диссонанс… Возвышенная любовь вытекает из почитания, почитание сковывает возвышенную любовь. На свете нет ничего простого и легкого: все сложно и трудно… Вы уже не думаете о богатстве? Не окончить ли нам поэму «В Швейцарии»? Как я вам благодарен за то, что вы познакомили меня с такими произведениями! Большую часть жизни я провел за границей и знаком только с иностранной литературой. Однако великолепна и польская… Я многому научился у вас…
Несмотря на противоречивые чувства, волновавшие ее, она от души засмеялась:
— Вы? У меня? О боже! Чему же я могу научить кого бы то ни было? Только Стася я научила читать и писать…
— Чему вы меня научили, я объясню потом, а теперь окончим поэму.
И он снова стал читать:
Не знаю, мыслью погружаюсь в былое.
Как лучше мне ее себе представить…
Проходили минуты… Теперь она, слушая, шила, но плохо, медленно и криво.
Голос чтеца умолк. За деревьями на газоне почти уже не было золотых полос, и на темной дорожке исчезла золотая сетка. Зато пламя заката, горевшее на деревьях, зажгло на их верхушках розовые факелы и свечи. Внизу смеркалось. Яркое прежде пятно цветника потемнело, и только белые цветы отчетливо виднелись вдали.
Клара подняла убранный чепец.
— О боже! — воскликнула она, — как я убрала этот чепчик!..
— А что? — улыбнулся Пшиемский: — криво?
— Совсем криво! Видите? В этом месте масса складок, а в том — нет их совсем; тут придвинуто к краю, а там — отодвинуто…
— Катастрофа! Не придется ли вам все это распороть?
— Непременно! Нужно все распороть… Беда невелика, и в полчаса все будет переделано!
— Нельзя служить сразу двум господам: поэзии и прозе. Проза вам не удалась!
Она задумалась на минутку:
— А я думаю не так. Мне кажется, что даже в самом прозаическом занятии может быть своя поэзия. Все зависит от намерений, с которыми мы что-нибудь делаем…
— От побуждений, — поправил он. — Да, вы правы… Но что побуждает вас убирать чепчики для госпожи Дуткевич?
— Я ее люблю и многим ей обязана… К тому же она делается такой милой, прелестной старушкой, когда оденет такой чепчик!
— Какое это счастье любить эту госпожу Дуткевич! — заметил со вздохом Пшиемский.
— Почему? — спросила она.
— Потому, что эту госпожу Дуткевич можно и уважать и смело говорить ей, что любишь ее. А во многих других случаях приходится либо уважать и молчать, либо, сказав, проявить неуважение. Вы помните стихи: «Они любили друг друга?..»
Он не докончил, потому что издали, из соседнего сада, послышался зов Стася:
— Клярця, Клярця!
Не найдя сестры в беседке, он недоумевал, куда она могла исчезнуть, и кричал все громче на оба сада. Клара с корзинкой в руке быстро поднялась со скамеечки.
— А мои бедные цветы? — напомнил Пшиемский. — Разве вы их не возьмете?
— Почему же нет? Благодарю вас! — ответила она и взяла букет, который он вместе с ее рукой на мгновенье задержал в своей руке.
В его синих глазах снова блеснула молния, и подвижные ноздри широко раздулись. Спустя несколько секунд он, опустив руки, шел рядом с нею по аллее. На повороте он спросил:
— В котором часу оканчиваете вы ваши домашние работы?
— В десять, — ответила она. — Отец и Стась уже всегда спят в это время, а часто и Франя тоже. — Итак, когда они заснут и вы освободитесь от… вашей службы, выйдите в сад послушать музыку: я и мой друг будем играть для вас в десять часов… Хорошо?
— Хорошо, благодарю вас! — ответила она и остановилась у калитки в решетке, в тени деревьев, которая чем ближе к вечеру, тем становилась гуще.
— Покойной ночи! — сказала она.
Он взял обе ее руки и некоторое время смотрел на нее, наклонив к ней лицо.
— Играя, я буду думать, что вы где-то тут стоите около решетки и слушаете мою музыку. И души наши будут вместе.