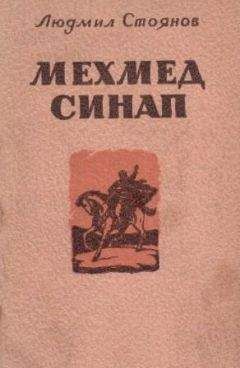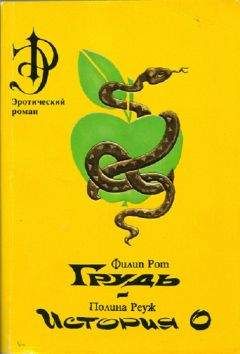Людмил Стоянов - Избранная проза
Глава пятая
Дочь
1Оставшись в одиночестве, Матей Матов испытал странное чувство. Он понял, что с ним происходит что-то особенное. Ему представилось вдруг, что все то, чем он жил, серо, как пепел, превращено в прах и развеяно временем. Оно не утратило смысла, нет, но все возвышенное, идеальное, что носил он в душе, было как-то осквернено, облито грязью.
Все его стремления — желание трудиться на благо народа, бороться за права порабощенных и угнетаемых, страдать за правду, — все это как-то откладывалось, обходилось и в конце концов оказалось забытым. Нечто более сильное, чем он сам и чем все его добрые намерения, нечто неумолимое вечно тяготело над ним и заставляло повторять: есть еще время. Он верил, что не сегодня-завтра он сбросит иго невидимых пут жизни и сможет приступить к самому важному, к настоящей жизни.
Но эти невидимые силы опутывали его все крепче, делали его послушным рабом своих прихотей и превращали во вьючное животное. Так, в повседневной суете, в мелочных заботах время бежало вперед, и он поспешал за ним, высунув язык, забыв о том высоком, что было его мечтой в юношеские годы.
И вот сейчас, невольно подведя итоги, он увидел, что от мечтаний молодости не осталось ничего, что жизнь утекла, как вода сквозь решето. Тоска, невыразимая тоска сжала ему сердце, захотелось заплакать. Но он тут же спохватился, вспомнив, что болен, и эта мысль отрезвила его, избавив от всякой сентиментальности и вернув к настоящему. В комнате было пусто и так тихо, что он испугался. Пустота эта показалась ему ужасающей, враждебной, безучастной. Он попытался на чем-нибудь сосредоточиться, разорвать заколдованный круг прошлого, попытался проникнуть в будущее, в эту новую неизвестность, где, быть может, поджидал его добрый гений жизни. Но эта неизвестность была еще страшнее, еще менее изведанной, без единого просвета, — и он испытал такое чувство, словно проваливается куда-то, превращается в прах, исчезает.
Прошлое было все же реальным, хоть и безрадостным, он ощущал его в своих высохших пальцах, в облыселой голове, в торчащих ребрах и во всем ослабевшем теле. С неумолимостью естества оно оставило на нем свою печать. А будущее? В нем ничего нельзя разглядеть, оно похоже на чистую бумагу, лишено содержания, пусто.
И, несмотря на все это, будущее для него не связывалось со смертью. Неизвестно почему, но мысль о смерти, ощущение ее близости не мучили его. Он верил словам доктора, что через несколько дней встанет, считал, что песенка его еще не спета, что ему предстоят большие и жизненно важные дела. До сих пор оставался открытым вопрос о знамени его полка, попавшем в руки туркам, но затем отбитом ценою больших жертв. Недоброжелатели оспаривали у него эту победу, этот подвиг, и справедливость требовала, чтобы он как очевидец и участник этой победы рассказал правду. Нужно было еще пустить в ход ветряную мельницу, которую он доставил с таким трудом из Германии. Книга его «Причины разгрома» должна увидеть свет — он сам ее издаст назло всем трусам и ничтожествам. Она должна во что бы то ни стало выйти из печати, так как в ней заключалась истина, назидание потомству и спасение. Да, да. Будущее не столь бессодержательно, как казалось…
Вошла дочь Вера с лекарствами и начала давать их ему одно за другим.
Только сейчас он серьезно задумался над тем, что он болен, почувствовал, как ноги, особенно правая, одеревенели, и это поразило его, как молния, будто он впервые увидел пропасть, над которой повис. А что, если доктор только успокаивал его? Он связал ощущение холода в правой ноге с внезапно наступившей глухотой и сердечной слабостью, — он столько наслышался в военном клубе от старых полковников и генералов запаса о такого рода болезнях, — и, как бы осененный свыше, с тоской провел рукой по лбу, словно стараясь отогнать какую-то тяжелую, темную и неясную мысль.
2Дочь осталась в комнате и села на стул около второй кровати. Возле него постоянно должен был кто-нибудь дежурить — таково было указание врача. Он лежал безучастный ко всему, но взгляд его, устремленный в потолок, говорил, что в голове у него происходила какая-то тревожная борьба мыслей.
Вера смотрела на отца и старалась объяснить себе его болезнь. Сердце ее учащенно билось, она чувствовала, что надвигается что-то большое, но не могла до конца осознать, оценить всю важность этого момента.
К отцу у нее было какое-то особое, сложное чувство. Поздно поняла она, что между отцом и матерью непримиримая вражда, и начала искать ответа на вопрос о том, кто же из них прав. Не был прав ни тот, ни другой, потому что они были совершенно разными людьми. Она понимала, что не только на отца ложится ответственность за все несчастья в доме, что и мать, с ее упрямым характером, кичливостью и подозрительностью, вечно подливает масла в огонь. Она была женщиной своеобразной, не имеющей ни малейшего дара к ведению домашнего хозяйства, не способной сберегать, экономить, накапливать, обзаводиться, — все это, по ее мнению, было уделом прислуги и простаков. Вера считала также, что мать ее была лишена и материнских чувств, нежности, стремления защитить своих детей и воспитать их в определенном направлении, — по крайней мере, ей не пришлось испытать на себе ни одного из этих благодетельных качеств. Никогда не слышала она от матери доброго и поощрительного слова, ни разу не испытала на себе материнской нежности, сердечной ласки. Нет, только побои и ругань.
До чего же она завидовала своим подругам, наблюдая, как их матери из сил выбивались, заботясь о своих детях, завидовала и страдала за себя. Мать никуда ее не пускала — ни на вечеринки, ни на школьные утренники, ни на танцы, где остальные девочки веселились до потери сознания. Она запирала ее дома, так что приходилось выскакивать в окно, таиться от матери; дело дошло до того, что мать стала читать ее письма, дневники, следить за тем, что она читает, проповедовать самую отвратительную мораль — и все завершалось в конце концов настоящими побоями.
Что было причиной этого неслыханного ослепления, этой поразительной ограниченности, превращавшей родной дом в тюрьму? Может быть, отсутствие любви, ненависть к отцу накладывали отпечаток и на ее отношение к детям? Душа Медеи живет в каждой женщине, и, быть может, разочарование в муже, пропасть, внезапно раскрывшаяся между ними, заморозили в ней всякое теплое чувство, любовь и самое желание жить? А может быть, причиной всему была ее неспособность справиться с весьма сложным семейным механизмом — такого рода деятельность была ей чужда, она к ней не готовилась, не думала о ней, увлеченная бог знает какими нелепыми планами, воспитанная в довольстве, с гувернантками и слугами, а затем сразу окунувшаяся в водоворот нужды и предоставленная самой себе… Кто знает? Вера старалась развязать этот узел противоречий и довольно легко добиралась до основной причины, которая заключалась в невежестве — этой, по ее мнению, национальной болгарской добродетели… Невежество, невежество, нередко думала она, есть ли что-нибудь ужаснее?
Вера вспомнила об истязаниях, которым подвергала ее эта женщина, о моральной инквизиции, подозрениях, обидной и унизительной слежке с ее стороны. И все это мать делала грубо, бессмысленно, руководимая одним лишь тупым, животным страхом: «А что скажут люди» или: «Не хочу быть посмешищем для людей». Доброжелательство, снисходительность, благородство, любовь — все это здесь было исключено.
Теперь она понимала: в том, что отец стал нетерпимым, мелочным и болезненно раздражительным, была виновата мать, ее полное невнимание к семье, манера дразнить отца, не считаться с его привычками, презирать его мнение (ему ли ей указывать!), вообще идти против любого его желания, даже самого невинного. Он, конечно, тоже имел немало недостатков, но у него все же хоть добрые намерения были, и следовало только поддержать отца в его стремлениях, направить их по правильному пути. Этого, однако, не случалось, — наоборот, все вызывало у нее лишь презрительную улыбку, недоверие: чего, мол, от тебя ждать?
Иногда Вера испытывала к матери настоящую неистребимую ненависть. Боже мой! Сколько горя испытала она из-за нее, какие муки отчаяния, ярость, озлобление — и из-за чего? Только из-за ее спесивости, глупости и невежества.
3Вера сидела, подперев голову руками, пристально глядя на неподвижную фигуру отца, и воспоминания слетались к ней, как пожелтелые опавшие листья, гонимые ветром, влетают в открытую дверь. При виде этого человека, распростертого, как труп, на кровати, человека, которого она также от всей души презирала за мелочность и слабоволие, мать внезапно предстала перед ней в новом, ярком свете — страшной, мстительной, злой мегерой. Сколько слез она пролила из-за нее, особенно сравнивая свою жизнь с жизнью подруг. Тех матери любили, окружали лаской, заботами, разрешали свободно ходить куда хочется, водили в театры, на балы… А она! Никогда, ни разу не почувствовала она на себе материнской заботы, малейшего беспокойства о ее здоровье, одежде — боже упаси!