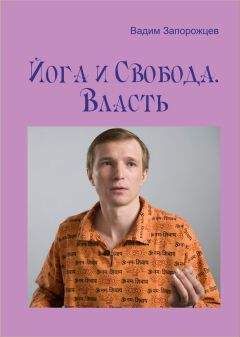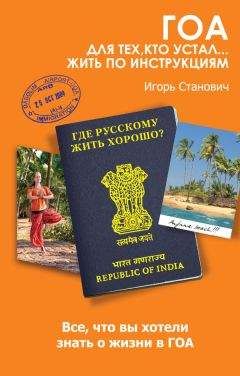Уильям Голдинг - Ритуалы плавания
Найдется еще кое-что, заслуживающее внимания. Как раз перед тем, как меня прихватила морская болезнь — сейчас я уже ничего, только слаб, — наше общество взволновало одно политическое событие. Мало того, что капитан, сообщив свое решение через мистера Саммерса, обманул ожидания пастора, надеявшегося получить разрешение отправлять богослужения, он еще и запретил ему из-за какого-то нарушения «Правил» появляться на мостике. Деспот, да и только! Сообщил нам об этом мистер Преттимен, который постоянно разгуливает (с мушкетоном!) по шканцам. Он, бедняга, оказался между двух огней — своей неприязнью ко всякой церкви вообще и тем, что он называет любовью к свободе! Борьба между этими принципами и чувствами, которые они в нем вызывают, протекала болезненно. Успокоение он находил — в ком бы вы думали? — в мисс Грэнхем! Когда до меня дошла эта комическая и удивительная история, я встал с койки, побрился и оделся. Я понял, что мой долг и собственные наклонности требуют от меня вмешаться. Не самодуру капитану управлять мною подобным образом! Этого еще не хватало! Он не смеет диктовать, посещать ли мне или не посещать богослужения! Я тут же смекнул, что пассажирский салон для них годится, и никакому капитану — разве только привычка командовать превратит его в маньяка — распоряжаться в салоне помимо нас мы не дадим.
По вечерам пастор вполне может отправлять там короткие службы для пассажиров, желающих их посещать. Стараясь удерживать равновесие, я прошел по коридору и постучал в дверь пасторской каюты.
Он открыл мне дверь и со своим обычным колыхательным телодвижением чуть не рухнул на колени. Неприязнь к этому человеку завладела мной вновь.
— Мистер… э… мистер…
— Джеймс Колли, мистер Тальбот, сэр. Преподобный Роберт Джеймс Колли, сэр. Чем могу служить, сэр?
— Именно. Речь пойдет об отправлении службы, сэр.
Мощный извив всем телом! Словно он воспринял слово «служба» как дань себе и Всевышнему в одном — то бишь в его — лице.
— Когда у нас ближайшее воскресенье, мистер Колли, сэр?
— Да сегодня, сэр. Сегодня, мистер Тальбот, сэр.
Он поднял на меня глаза, полные рвения и такой подобострастно-униженной преданности, что можно было подумать, в кармане моего сюртука лежит не менее двух приходов. Он крайне меня раздражал, и я поспешил изложить цель моего визита.
— Я был нездоров, мистер Колли, иначе пришел бы к вам раньше с моим предложением. Несколько дам и джентльменов были бы рады, если бы вы стали отправлять службу, короткую службу в пассажирском салоне. В семь склянок пополудни, или, если вам милее сухопутный язык, в половине четвертого.
Он словно вырос у меня на глазах! Его собственные наполнились слезами.
— Мистер Тальбот, сэр! Это… в этом вы весь! Мое раздражение достигло предела. У меня чуть не сорвалось с языка: откуда, черт возьми, ему известно, каков я весь! Я кивнул ему и вышел; из-за моей спины донеслось невнятное бормотание о посещении страждущих. Ну нет, подумал я, пусть только попробует ко мне заявиться, выставлю и еще наломаю бока! Как бы там ни было, но я сумел добраться до салона — раздражение неплохое лекарство от слабости в ногах! — и застал там Саммерса. Когда я рассказал ему о том, что предпринял, он встретил мое сообщение молчанием. И только когда я попросил его позвать на молебен капитана, он, криво улыбнувшись, сказал, что доложить об этом капитану ему во всяком случае придется. Он, кстати, берет на себя смелость посоветовать перенести службу на более поздний час. Я ответил, что час мне безразличен, и вернулся к себе в каюту, где, опустившись на парусиновый стул, почувствовал себя порядком изможденным, но выздоровевшим. Тем же утром позднее Саммерсзашел ко мне, чтобы сказать, что он выполнил мое поручение, изменив несколько его форму, против чего, он надеется, я не стану возражать. Он изложил мое приглашение как просьбу от всех пассажиров. Это, поспешил он добавить, больше соответствует обычаям морской службы. Пусть так. Всякий, кому странный, но в целом выразительный флотский язык (надеюсь привести вам несколько классических его примеров) нравится так, как нравится мне, ни за что не допустит, чтобы нарушались обычаи морской службы. Однако, когда я услышал, что преподобному Р. Дж. Колли будет разрешено наставлять нас, я, должен сознаться, пожалел о моем импульсивном вмешательстве, поняв, в какой степени эти несколько недель наслаждался свободой от атрибутов нашей господствующей религии.
Однако, из приличия, я не мог идти на попятный и отправился на богослужение, которое было разрешено нашему тщедушному пастырю. Оно вызвало у меня неприятные чувства. Еще до начала службы я увидел мисс Брокльбанк; ее лицо было оштукатурено красным и белым! Так, должно быть, выглядела Магдалина, когда, может быть, стояла, прислонившись к ограде храма, не смея вступить в его пределы. Вряд ли, подумалось мне, Колли из тех, кому под силу изменить ее внешность на более пристойную. Но, как выяснилось позже, я недооценил ее умственные способности и жизненный опыт. Когда настало время молитвословия и в салоне зажглись свечи, осветив ее лицо, они смыли с него следы разрушительных лет, а то, что минуту назад было краской, теперь казалось волшебной юностью и красотой! Она посмотрела на меня. Едва я оправился от этого удара, равного сосредоточенному на мне огню целой батареи, как обнаружил, что мистер Саммерс внес дальнейшие поправки в мое первоначальное предложение. Он разрешил прийти в салон и присутствовать вместе с нами на богослужении некоторым более респектабельным переселенцам: Гранту — коновалу, Филтону и Витлоку — клеркам, если не ошибаюсь, и старику Грейнгеру с женой. Мистер Грейнгер — нотариус. Что и говорить, любая деревенская церковь являет собою такое же смешение чинов и званий; но здесь общество пассажирского салона само по себе — фальшивка, фантом. Лишь дурной пример для них! Не успел я прийти в себя от вида этого вторжения, как к нам — внимавшим ему с почтением — обратился наш пятифутовый недомерок пастырь в стихаре, в пасторской шапочке, водруженной на круглый паричок, в длинном одеянии, в башмаках, подбитых железными подковками, — и все это в сочетании с выражением, в котором смешивались застенчивость, благочестие, триумф и самодовольство. Ваша светлость сейчас возразит, что эти качества в одном лице несовместимы. Согласен: в обыкновенном лице редко когда найдется место для всех их вместе и, как правило, преобладает какое-то одно. Да, по большей части это так. Когда мы улыбаемся, то и рот, и щеки, и глаза — все лицо от подбородка до линии волос расплывается в улыбке. Но преподобного Колли природа соорудила с величайшей экономией. Природа пожадничала… нет, это чересчур сильный глагол! Попробую иначе: в каком-то уголке прибрежной полосы Времени или на илистом грунте, окаймляющем одну из его речушек, были, случайно и безучастно, выплеснуты кучей несколько черт, которые Природа, создавая другие существа, отбросила как ненужные. Завершила эту коллекцию живая искра, которую, возможно, внесли в нее ради одухотворения овцы. А в результате — сей неоперившийся птенец в качестве служителя церкви.
Ваша светлость, полагаю, уличит меня в стремлении писать красиво: льщу себя надеждой, что попытка моя не так уж неудачна. Впрочем, пока я наблюдал эту сцену, главной моей мыслью было, что Колли — живое доказательство Аристотелева афоризма. В конце концов, человек от природы принадлежит к определенному званию, даже когда поднимается над ним по оплошному капризу чьего-то покровительства. Этот порядок вы обнаружите в бесхитростных картинках, украшающих средневековые манускрипты, где цвет не имеет оттенков, а рисунок — перспективы. Осень там всегда будет представлена крестьянами, крепостными, жнущими на полях, и их лица под головными уборами изображены такими же скупыми и ломаными линиями, как физиономия Колли. Глаза у него были потуплены от застенчивости и, возможно, воспоминаний. Уголки губ приподняты — тут явно действует чувство триумфа и гордость собой. В остальной части лица обильно проступает кость. Что и говорить, его школой скорее всего было открытое поле, где мальчишкой он собирал камни и распугивал птиц, а университетом — плуг. А потом тропическое солнце изрезало его черты неровными линиями, покрыло загаром, и они обрели цельность и то единое, смиренное выражение, которое их все одушевило.
Ох, кажется, я опять пошел писать красиво? Но я все еще дико взволнован и возмущен. Он знает, что я человек с весом. И иногда было трудно различить, к кому он адресуется: к Эдмунду Тальботу или к Всемогущему. И в своей театральности он не уступал мисс Брокльбанк. Только привычка с почтением относиться к священническому сану удерживала во мне приступ возмущенного смеха. Среди респектабельных переселенцев была и та бедняжка с землистым лицом; крепкие руки принесли ее в салон и усадили позади нас. У нее, как мне сказали, во время первого нашего шторма произошли преждевременные роды, и сейчас ее ужасная бледность по контрасту оттеняла накрашенные щеки красотки Брокльбанк. Глумлением над благопристойным и уважительным вниманием ее спутников были эти два существа, считающиеся людьми более высокого разбора, — одна вся размалеванная, изображающая благочестие, другой с молитвенником в руках, изображающий святость! Как только началось богослужение, начались и курьезнейшие фортели этого курьезного вечера. Я уже не говорю о звуке размеренных шагов над нашими головами на шканцах, где мистер Преттимен как можно громче демонстрировал свой антиклерикализм. Не стану останавливаться и на топоте и криках при смене вахты — все это, бесспорно, происходило по указанию капитана, или с его одобрения, или с его молчаливого согласия, со всей лихостью, на какую способна резвящаяся матросня. Нет, мне запомнился чуть покачивающийся салон, бедная больная и тот фарс, который разыгрывался у нее на глазах! Ибо едва мистер Колли узрел мисс Брокльбанк, как уже не мог отвести от нее глаз. Она, со своей стороны, войдя в роль — именно «роль», иначе не назовешь, — угощала нас сценой благочестия из заштатного спектакля в провинциальном турне. Глаза ее ни на секунду не отрывались от лица мистера Колли — разве только когда она вздымала их к небесам. Ее рот оставался все время полуоткрытым в молитвенном экстазе — разве только открывался и мгновенно закрывался для страстного «Аминь!». Был даже такой момент, когда фальшивые слова, произносимые в ходе проповеди мистером Колли, с последующим «Аминь!» мисс Брокльбанк обратили на себя особое внимание, так как их сопроводил разнесшийся по всему салону утробный звук, который исходил из нутра мистера Брокльбанка, и вся паства, словно школьники в классе, дружно захихикала.