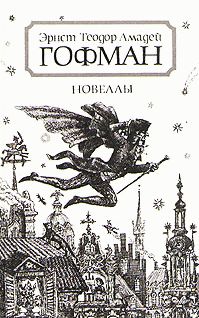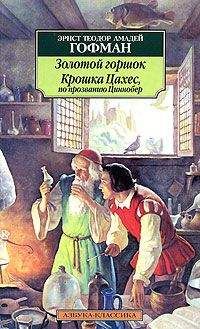Эрнст Гофман - Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца
Я. Но я все еще не могу понять, как Цецилия…
Берганца. Цецилия еще никогда не любила; теперь она приняла пробудившуюся в ней чувственность за само это высокое чувство, и пусть вскипевшая в ней кровь не смогла совсем погасить ту божественную искру, что прежде горела в ее груди, все же теперь она лишь едва тлела и не могла уже разгореться в чистое пламя. Короче: сыграли свадьбу.
Я. Но катастрофа с тобой, дорогой Берганца…
Берганца. Теперь, когда главное позади, о ней можно рассказать быстро, в нескольких словах. Можешь себе представить, как я ненавидел Жоржа. В моем присутствии он мог доводить свои мерзкие ласки лишь до известного предела, известные и совершенно особые его нежности я мгновенно пресекал громким рычанием, а за попытку Жоржа угомонить меня затрещиной я наказал его, хорошенько укусив за икру, которую порвал бы, будь там что ухватить, кроме твердой кости. Тут этот человечишка испустил такой вопль, что он отозвался аж в третьей комнате, и поклялся меня прикончить. Цецилия тем не менее сохранила свою любовь ко мне, она заступилась за меня, однако о том, чтобы взять меня с собой, как она собиралась, и думать было нечего, все было против этого, так как я укусил жениха за икру, хотя Нерешительный характер, который еще иногда заходил в этот дом, дерзко утверждал, что икра Жоржа есть отрицание, нечто несуществующее, стало быть, погрешить против нее невозможно, укусить за ничто — нельзя и т. д. Я должен был остаться у мадам. Какая печальная судьба! В день свадьбы, попозже к вечеру, я потихоньку убежал, однако когда я проходил мимо ярко освещенного дома Жоржа и увидел, что дверь распахнута настежь, то не мог устоять перед искушением еще раз, чего бы это ни стоило, совсем на старый манер попрощаться с Цецилией. Поэтому, вместе с вливавшимися в дом гостями я прокрался вверх по лестнице, и моя счастливая звезда помогла мне найти милую Лизетту, горничную Цецилии, которая завела меня в свою комнатку, где вскоре передо мной дымился изрядный кусок жаркого. От гнева и раздражения, да и для того, чтобы хорошенько подкрепиться перед вероятно предстоявшим мне долгим путешествием, я сожрал все, что она мне дала, и вылез потом в освещенный коридор. В сутолоке сновавших туда-сюда слуг, зашедших сюда зрителей меня никто не заметил. Я обстоятельно прислушался и принюхался, и мой чуткий нос указал мне на близость Цецилии, приоткрытая дверь позволила мне войти, и как раз в эту минуту из соседней комнаты, в сопровождении нескольких подруг, вошла Цецилия в роскошном свадебном наряде. Показаться сразу было бы глупо, поэтому я забился в угол и дал ей пройти мимо. Едва я остался один, как меня поманил сладостный аромат, струившийся из соседней комнаты. Я шмыгнул туда и оказался в роскошно убранном и благоухающем покое новобрачной. Алебастровая лампа бросала мягкий свет на все вещи вокруг, и я заметил изящные, богато отделанные кружевами ночные платья Цецилии, разложенные на диване. Я не мог удержаться от того, чтобы с удовольствием их не обнюхать, тем временем я услыхал в соседней комнате торопливые шаги и поспешил спрятаться в уголке возле брачного ложа. Вошла взволнованная Цецилия, Лизетта следовала за ней, и в течение нескольких минут богатый наряд сменило простое ночное платье. Как она была прекрасна! Тихо скуля, вылез я из угла! «Как, ты здесь, мой верный пес?» — воскликнула она, и казалось, что мое неожиданное появление в этот час взволновало ее совершенно особым, сверхъестественным образом, ибо внезапная бледность покрыла ее лицо, и, протянув ко мне руку, она, казалось, хотела убедиться, действительно ли это я или перед нею только призрак. Вероятно, ее охватили странные предчувствия, ибо слезы брызнули у нее из глаз, и она сказала: «Уйди, уйди, верная собака, я должна теперь оставить все, что до сих пор было мне любо, потому что теперь у меня есть он, ах, они говорят, что он заменит мне все, он и правда очень добрый человек, намерения у него добрые, хотя иногда… Но ты не пойми так, будто… — а теперь уйди, уйди!» Лизетта открыла дверь, но я забрался под кровать, — Лизетта ничего не сказала, а Цецилия этого не заметила. Она была одна и принуждена вскоре открыть дверь нетерпеливому жениху, он, по-видимому, был пьян, так как сыпал вульгарнейшими непристойностями и мучал нежную невесту своими грубыми ласками. Как бесстыдно он потом, с неутолимым вожделением истощенного сластолюбца, обнажал сокровеннейшие прелести непорочной девушки, как она, подобная жертвенному агнцу, тихо плача, страдала в его жестоких ручищах, уже это привело меня в бешенство, я невольно заворчал, но никто этого не услышал. Но вот он взял Цецилию на руки и хотел отнести на кровать, однако вино все сильнее действовало на него, он зашатался и ушиб ее головой о столбик кровати, так, что она закричала. Она вырвалась из его объятий и бросилась в постель. «Любимая, разве я пьян? Не сердись, любимая», бормотал он заплетающимся языком, срывая с себя шлафрок, чтобы последовать за ней. Но в приступе страха перед ужасными истязаниями этого жалкого, хилого человека, видевшего в девственной, ангельски чистой невесте всего только продажную публичную девку, она вскричала с душераздирающей скорбью: «Я, несчастная, кто защитит меня от этого человека!» Тут я в ярости вскочил на кровать, крепко схватил зубами это ничтожество за тощее бедро и, протащив по полу к двери, которую распахнул, нажав на нее со всей силой, выволок в коридор. Пока я терзал его так, что он обливался кровью, он сходил с ума от боли, и жуткие глухие звуки, которые он издавал, разбудили весь дом. Вскоре все пришло в движение: слуги, служанки бежали вниз по лестнице с ухватами, лопатами, палками, но застыли в безмолвном ужасе перед открывшейся им сценой, никто не решался приблизиться ко мне — они думали, что я бешеный, и боялись моего смертельного укуса. Между тем Георг, уже почти в беспамятстве, стонал и охал от моих укусов и пинков, а я все не мог от него отстать. Тут в меня полетели палки, посуда, со звоном разлетались оконные стекла, рюмки, тарелки, еще стоявшие после вчерашнего пиршества, падали разбитые со столов, но ни один метивший в меня бросок не попал в цель. Долго сдерживаемый гнев сделал меня кровожадным, я намеревался схватить моего врага за горло и с ним покончить. Тут из комнаты выскочил кто-то с ружьем и тотчас же разрядил его в меня, — пуля просвистела возле самого моего уха. Я оставил своего врага, лежавшего без чувств, и помчался вниз по лестнице. Вся многоголовая толпа, как взбесившаяся свора, пустилась теперь мне вслед. Мое бегство придало им храбрости. Снова полетели в меня веники, палки, кирпичи, некоторые попали и довольно сильно меня зашибли. Пора было исчезнуть, я бросился к задней двери, — к счастью, она была не заперта, — и вмиг очутился в большом саду. Разъяренная толпа уже бежала за мной — выстрел разбудил соседей, — повсюду раздавались крики: «Бешеная собака, бешеная собака!», в воздухе свистели камни, которыми швыряли в меня, тут мне наконец удалось, после трех тщетных попыток, перескочить через ограду, и тогда я без помех помчался через поле, не давая себе ни секунды передышки, покамест благополучно не прибыл сюда, где удивительным образом нашел себе приют в театре.
Я. Как, Берганца? Ты — в театре?
Берганца. Да ведь ты знаешь — это старая моя любовь.
Я. Да, вспоминаю: о своих героических подвигах на театре ты уже рассказывал твоему другу Сципиону, стало быть, теперь ты их продолжаешь?
Берганца. Отнюдь нет. Я теперь так же, как наши театральные герои, сделался совсем ручным, в известном смысле даже светски-обходительным. Вместо того чтобы, как подобает верному псу рыцаря, повергать наземь его врага или вцепляться в брюхо дракону, я танцую теперь под звуки флейты Тамино и пугаю Папагено. Ах, друг мой, честной собаке стоит большого труда так вот перебиваться в жизни. Но скажи мне, как тебе понравилась история брачной ночи?
Я. Откровенно говоря, Берганца, мне кажется, что ты уж слишком мрачно смотрел на это дело. Я признаю, что природа, по-видимому, редчайшим образом одарила Цецилию талантами артистки…
Берганца. Талантами артистки? Ха, дружище! Если бы ты слышал всего три взятых ею ноты, то сказал бы, что природа вложила ей в душу таинственное волшебство священных звуков, чарующих все живое! О Иоганнес, Иоганнес! Ты часто повторял эти слова. Но продолжай свое возражение, мой поэтический друг!
Я. Не стоит обижаться, Берганца. Я думаю, кроме того, что Георг, возможно, на самом деле был скотиной (извини за выражение!). Но разве нрав Цецилии не мог его расскотинить и он не стал бы, как многие другие молодые развратники, вполне порядочным, добросовестным супругом, а она — дельной домашней хозяйкой? Ведь так все же была бы достигнута очень добрая цель.
Берганца. О да, а между прочим послушай внимательно, что я тебе теперь скажу. У кого-то есть участок земли, который природа с совершенно особым благоволением снабдила изнутри, из недр, всевозможными чудно разноцветными слоями и металлическими маслами, а сверху, с небес — благоуханными парами и огненными лучами, так что прекраснейшие цветы поднимают над этой благословенной землей свои пестрые, блестящие головки и дышат разнообразными благоуханиями, словно возносят к небесам единый ликующий хорал, славя щедрую природу. Но вот он вздумал продать этот великолепный участок, и нашлось бы немало людей, которые стали бы любить, лелеять и выхаживать прелестные цветы; однако сам он мыслит так: «Цветы нужны только для украшения, а их аромат — пустое дело», — и сбывает землю покупателю, который цветы выдерет с корнем, а вместо них посадит дельные овощи, картофель и репу, кстати весьма полезные, поскольку они могут насытить, прелестные же благоухающие цветы погибнут безвозвратно. Что скажешь ты об этом владельце, об этом овощеводе?