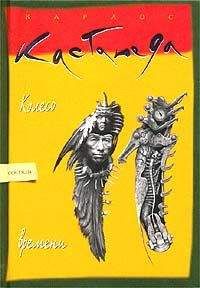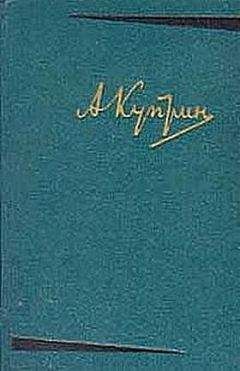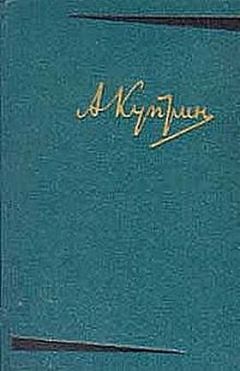Александр Куприн - Колесо времени
Все это я вспомнил и испытал в тот день, когда в моем бараке на заводе мои сотрудники дали пышный обед мне и Марии. Надо сказать, во-первых, что выпито было за столом несравненно больше, чем мои друзья позволили бы себе в присутствии «законной супруги». А во-вторых, в словах, обращенных к ней, в нелепых русских тостах и шутливых брачных намеках были неискренность, натянутость, приподнятость, вместе с худо скрытой развязностью. Я как будто бы прозревал их настоящие, циничные мысли: «Твое дело – капризный случай. Разве все мы не видели, как на твоих коленях сидели прехорошенькие девчонки и пили с тобою из одного стакана? Игра судьбы, что одна из них не сидит сейчас на почетном месте, игра судьбы, что эта досталась тебе, а не мне». Смешно сказать: все мужчины в этом смысле самомнительны до идиотства. Каждый лакей в аристократическом доме или во дворце, если он только не старше пятидесяти лет, такого высокого мнения о своих мужских достоинствах, что без особого волнения встретит минуту, когда его никому не доступная великолепная госпожа скажет ему, снимая одежды: «Неужели ты до сих пор не замечал, что я вся твоя?» «Рюи-Блаз» – героическая пьеса, однако она оказалась написанной точно специально для лакеев. По крайней мере – это их излюбленная пьеса.
И не вследствие ли этой уверенности в женской податливости, с одной стороны, и в своей собственной неотразимости – с другой, большинство мужчин склонно так хвастливо, так неправдоподобно, так грубо врать о своих любовных успехах?
И у такого хвастуна есть свое внутреннее темное оправдание: «Положим, этого никогда не случилось, но будь у меня свободное время, благоприятные условия, да поменьше робости, да побольше настойчивости, оно все равно непременно случилось бы...»
Словом, этот обед еще больше расторг мою прежнюю близость с сослуживцами.
Мария, в свою очередь, ответила им обедом, на котором была очень мила и обходительна, но недоступно холодна. На прощанье, когда кто-то из моих друзей намеревался поцеловать у нее руку, она не позволила. Она сказала:
– Это был, вероятно, прекрасный обычай в старину. Теперь он выходит из моды даже во дворцах.
И, чтобы загладить резкость, она прибавила, улыбаясь:
– Впрочем, и дворцы выходят, кажется, из моды.
Это замечание обидело. А ведь надо сказать правду: мы, русские, целуем дамские руки раз по тридцати в сутки, целуем знакомым, полузнакомым и вовсе незнакомым дамам, и притом вовсе не умеем целовать хотя бы немножко прилично. Да и поцелуй руки – это высшая, интимная ласка. С какой стати мы мусолим руку каждой женщины без смысла для нее и для себя?
И тоже: надо наконец серьезно подумать и о рукопожатиях. Сколько есть на свете мокрых, грязных, холодных, вялых, точно распаренных или сухо и жестко горячих, явно враждебных, несомненно преступных и просто отвратительных рук. И каждую из них вы, при случайном знакомстве, должны пожать, несмотря на то, что ваша рука – этот тончайший аппарат чувствительности – содрогается и протестует всеми своими нервами. Не лучше ли кивок, полупоклон, ну, в крайности, даже глубокий, черт побери, поклон?
Так мы с Марией и остались одни в шумной, людной, пестрой Марсели. Отношения мои с сотрудниками стали вежливо деловыми, хотя порою мне казалось, что я читаю в их случайных взглядах подозрительный и ядовитый вопрос: «А уж не состоишь ли ты на содержании у женщины?» Страшный вопрос для мужчины.
Вот почему я бесконечно обрадовался, когда бельгийское общество купило мой патент на новый гидравлический пресс и я получил деньги, для меня в то время довольно большие.
Был, впрочем, один человек, который казался мне искренно привязанным к Марии и глубоко ее уважавший. Это – главный директор нашего завода, господин де Ремильяк, старый, сухой гасконец, с серебряной узкой бородой и пламенными черными глазами. Он говорил о мадам Дюран с рыцарской почтительностью. Каждый раз, когда он спрашивал меня о ее здоровье или посылал ей поклон, то, называя ее имя, он неизменно приподнимал свою каскетку. Гораздо позже я узнал, что де Ремильяк был большим другом ее покойного отца и что он вел все денежные дела Марии. Между прочим, часть ее состояния была в акциях нашего завода.
В первые месяцы я совсем не чувствовал отсутствия мужской свободной компании. Видишь ли: есть у татар такое словечко – «хардаш», что значит, товарищ, друг. Но у них товарищи бывают разного рода: товарищ по войне, товарищ по торговле, товарищ по пирушке... Есть также и товарищ по путешествию, спутник. Он называется киль-хардаш, и им очень дорожат, если он имеет все добрые качества своего звания. Так вот: Мария как раз была чудеснейшим киль-хардашем.
Она обладала той быстротой, четкостью и понятливостью взгляда, которые Бог посылает как редчайший дар талантливым художникам и писателям, но гораздо щедрее, чем мы думаем, раздает женщинам, умным и искренно любящим жизнь. Ее наблюдения были верны, а замечания остры и забавны, но никогда не злы.
Мы любили путешествовать наудачу. Брали карту Прованса, кто-нибудь из нас, зажмурив глаза, тыкал пальцем куда попало, и какой город или городишко оказывался под пальцем, туда мы и ехали в ближайшую субботу. Прованс неистощим в своих красотах.
Странно: чаще всего в этом гаданье выпадал у нас городок с весьма забавным названием: Cheval-Blanc – Белая Лошадь! Но он был точно заколдован: всегда нам что-нибудь мешало открыть его. Мария однажды сказала о нем очень мило:
– Ты знаешь, как я себе рисую этот таинственный город? Там давно уже нет ни одного живого существа. Плющом повиты развалины старых римских домов и разбитых колонн. А на площади высится лошадь из белого мрамора, раз в десять выше натурального конского роста. Крошечные жесткие колючие кустарники, и кричат цикады... и больше ничего нет. Но я думаю, что ночью, при лунном свете, там должно быть страшно...
Удивительно: этот неведомый городок всегда тревожил мое воображение каким-то смутным предчувствием. Не суждено ли мне умереть в нем? Не ждет ли меня радость? Или, может быть, глубокое горе? Судьба бежит, бежит, и горе тому, кто по лени или по глупости отстал от ее волшебного бега. Догнать ее нельзя.
Незабвенные жаркие дни под южным солнцем; сладостные ночи под черным небом, усеянным густо, до пресыщения, дрожащими южными звездами. Прохладная тихая полутьма и строгий мистический запах древних каменных соборов, уютные остеллери и обержи[Постоялый двор (от фр. auberge).], где пища была так легка и проста, незатейливое местное винцо так скромно пахло розовыми лепестками, а ласковая улыбка толстой хозяйки так дружески поощрительна, что нам казалось, будто мы пьем и едим на голой груди матери-земли, прильнув ртами к ее всеблагим напряженным сосцам.
Старый друг мой, дорогой мой дружок! Никому я обо всем этом никогда не говорил и, уж конечно, больше не скажу. Прости же мне мое многоречие...
Есть у меня утешение – моя исключительно точная память. Но как сказать: не источник ли этот дар и моих бесплодных мучений? Когда жаждущему дают морскую воду, он радуется ее прохладе, но, выпив, терзается жаждой вдвое.
У меня в памяти большая коллекция живых картин. Сюжет всегда один и тот же – Мария, – но разные декорации. Стоит мне только вытащить из моего запаса экзотическое название любого провансальского городишки или станции, связанной с нашей любовью, – какой-нибудь «Cargneiranne», или «Pont de la Clue», или «Mont des Oiseaux», или «Pas de Lancieres», или «La Barque», – вытащу, и вот передо мной полосатые навесы от солнца, длинное одноэтажное здание, крашенное в желтую краску, запах роз, лаванды, чеснока и кривой горной сосны; виноградный трельяж и непременно Мария. Она видится мне так резко и красочно, точно в камере-обскуре. Я слежу за ее легкими движениями, поворотами головы, игрой света и тени на ее лице. Я слышу ее голос, вспоминаю каждое ее слово.
Вот теперь мне вспоминается Борм... Такой небольшой уездный городишко между Тулоном и Сен-Рафаэлом. Мы в гостинице (Hostellerie), которой насчитывается около пятисот лет. Несколько раз она меняла свое название вместе с хозяевами. Последний владелец, бретонец, назвал ее «La Corriganne», что на его языке значит «Морской грот».
Там было чистенько, уютно, прохладно, но ни одного намека на грубоватую прелесть утекших веков...
Нас проводили наверх, в крытую веранду. Сквозь ее широкие арки виден был весь город, в котором все дома сверху донизу тесно и круто лепились по скалам, без малейших промежутков, совсем как соты; едва намечались какие-то узенькие проходы, винтовые лестницы, слепые черные дыры. Наверху, как на шпиле, громоздилось неуклюжее серое здание замка «Chateau fort» – бывшее страшное разбойничье гнездо.
Внизу жило, дышало, рябилось, сверкало далекое море такой глубокой, густой синевы, которую можно было бы скорее назвать черной, если бы она не была синей.
Мария стояла с биноклем в середине арки, облокотившись обоими локтями о подоконник. Вдруг она воскликнула: