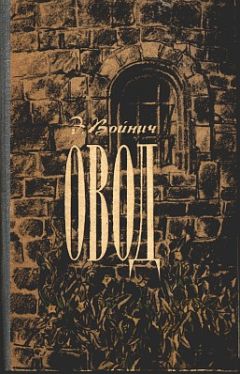Этель Лилиан Войнич - Джек Реймонд
— Дорогой мой, — мягко и вместе торжественно начал викарий, — все это было для меня так же ужасно, как и для тебя; не часто мне приходилось исполнять столь тяжкий долг. Но как христианин и служитель божий, я не могу и не смею терпеть душевную нечистоту. Кажется, не было в моей жизни разочарования более горького, чем то, которое я испытал, узнав, что мой дом обращен был в обитель порока, откуда исходил яд и отравлял мою паству, и что сын моего покойного брата едва не погубил невинные души.
На минуту он умолк. Джек не шелохнулся. Взгляд его огромных, широко раскрытых глаз был так странен, что викарию стало жутко.
— Я знаю, — продолжал он дрогнувшим голосом, — сейчас ты считаешь меня жестоким, бессердечным; но придет день — и ты будешь мне за это благодарен. Дитя мое, тебе грозила геенна огненная.
Мальчик по-прежнему не шевелился и, кажется, почти не дышал. Викарий взял его за руку.
— Но я вижу, что твоя бесовская гордость сломлена и ты раскаиваешься в своем грехе. Так поклянись же мне на библии, что исправишься. А потом, вместе преклоним колена и помолимся — да простит тебе господь смертный грех и да наставит тебя на путь истинный.
Он поднялся, не выпуская руки мальчика. Но тот молча, словно крадучись, ее отнял.
— Джек! — воскликнул викарий. — Ты еще не раскаялся?
Джек тоже встал и огляделся по сторонам, точно зверек, попавшийся в ловушку. Теперь он дышал громко, прерывисто.
— Вам... еще мало?.. — с усилием выговорил он. Это были первые слова, которые он произнес с того вечера, со вторника.
— Джек! — снова крикнул викарий. Лицо его до самых корней волос медленно залилось краской; губы плотно сжались. Что-то первобытное, чувственное и неистовое проступило в этом лице. Ноздри начали подергиваться.
— Джек, — произнес он в третий раз, умолк на мгновенье и договорил: — Ты... кажется... мне дерзишь?
Минуту они молча смотрели друг на друга. Потом взгляд викария пополз вниз — на обнаженное плечо Джека, на рассекавший его алый рубец. И вновь им овладела давняя, хорошо знакомая жажда, сводящая с ума страсть: видеть, как кто-то беспомощный бьется у тебя в руках. Протянув жадные пальцы, он коснулся раны.
От этого прикосновения словно огонь пробежал по его жилам. Но в последний миг, перед тем как предаться своему дьявольскому наслаждению, викарий успел заметить, как жертва отпрянула от него, словно от прокаженного, и подумал: «Он понял!»
Джек медленно подошел к спинке кровати и протянул руки, чтобы викарий связал их.
***
В эту ночь, когда весь дом уже спал, Джек с трудом поднялся с пола. Он лежал тут, вздрагивая, уронив голову на скрещенные руки, с тех пор как остался один.
Он огляделся. Свечи ему не давали, но ночь была ясная, в окно светила луна. Снаружи, в плюще, обвивавшем стену, спросонок зачирикала какая-то пичуга.
Наконец он добрался до стола и выпил воды. Теперь ноги уже лучше держали его, и ему удалось дойти до шкафа, открыть его и достать огарок и спички, которые он припрятал недели две назад. Для чего он тогда это сделал, он уже забыл; замыслы и желания того, прежнего, Джека были теперь бесконечно далеки от него.
Он зажег свечу, раскрыл библию и стал листать ее в поисках отрывка, который давно уже не давал ему покоя. Джек хорошо знал священное писание, но нужное место отыскалось не сразу: трудно было перевертывать страницы, руки онемели, распухли и тряслись. Притом его тошнило, голова кружилась, буквы плясали перед ним, и приходилось то и дело закрывать глаза и ждать, чтобы строчки снова выровнялись. И все-таки он нашел: это была двадцать седьмая глава Второзакония, глава о горе проклятия. Потом он с трудом наклонился и подобрал с полу хлыст. Викарий отшвырнул его, утолив наконец свою жажду. Джек положил хлыст на раскрытую страницу и прижал так, что кровавая полоса отпечаталась под девятнадцатым стихом: «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! И весь народ скажет: аминь!»
Потом он выбрался из окна и соскользнул по плющу вниз. Прежде он столько раз проделывал это, вовсе не думая об опасности; но сегодня, когда он долез до карниза, голова у него опять закружилась, стена качнулась, наклонилась, и клумба встала дыбом и ринулась ему навстречу. Джек вскинул руки и упал.
Остаток ночи прошел в хаосе смутных ощущений, все как-то непонятно изменялось и путалось; его бросало то в жар, то в холод; вокруг бушевали огромные крикливые толпы и вдруг исчезали; что-то жгло ему правую руку; что-то гремело, сверкало, с шумом хлестала вода; и потом снова все проваливалось в безмолвную тьму.
На рассвете он очнулся и кое-как заполз в дровяной сарай, который, к счастью, оказался рядом. Он сделал это почти безотчетно — так раненое животное, движимое слепым инстинктом, забивается куда-нибудь в темный угол, чтобы умереть. Он понял, что правая рука его сломана; все остальное смешалось, было еще только ощущение холода, кружилась голова и хотелось одного: если уж надо умереть, то скорей бы. Он всегда был скверным мальчишкой и если умрет без покаяния, то, конечно, ему одна дорога — в ад; но это его не слишком огорчало: до Страшного суда еще далеко, а когда тебе так плохо, то попадешь ли в ад или еще куда-нибудь — разница невелика.
Около восьми часов в сад вышел викарий. Глаза его смотрели сурово и сверкали гневным металлическим блеском; он уже побывал в каморке под крышей и видел кровавую черту в библии и оборванный плющ под окном. Что, если мальчишка удрал и нашел убежище у деревенских жителей или у диссидентского священника? Правда, более вероятно, что он направился в Фалмут в сумасбродной надежде наняться на какой-нибудь корабль. Но может случиться и другое...
Викарий сжал кулаки. «Если б только я не дотронулся до этой раны...» — подумал он и побагровел от гнева, вспомнив обнаженное плечо и кровавый рубец, который окончательно свел его с ума. Он даже в мыслях не смел назвать настоящим именем то, что произошло накануне; и, однако, он прекрасно знал, что это было. Всю ночь его преследовали сны, — много лет он думал, что больше им уже не суждено его тревожить; а ведь он вел такую суровую, безупречную жизнь, за все эти годы он ни разу не дал воли своему воображению. В молодости, еще в Лондоне, едва приняв сан, он однажды вечером у себя в спальне, после многих бесплодных попыток, изловил крысу; эта утомительная охота вывела его из терпения — и злосчастной крысе, попавшейся в конце концов ему в руки, долго пришлось ждать смерти-избавительницы. Потом он ушел из дому, возвратился, крадучись, только на рассвете и, мучаясь отвращением и укорами совести, говорил себе: во всем виновата крыса! И теперь ярость его обратилась на Джека: мальчишка заставил его споткнуться, осквернил его достойные седины, вновь пробудил обжигающие стыдом воспоминания и томления.
На глаза ему попалась отворенная дверь дровяного сарая, и он заглянул туда. Что-то, скорчившееся среди вязанок хвороста, поползло еще дальше в темный угол. Викарий подошел и наклонился.
— Джек! Что ты здесь делаешь?
Мальчик попробовал отползти еще немного.
— Что с тобой? Ты упал и ушибся?
— Нет.
— Ты вылез из окна? Хотел убежать? Вставай!
Он помедлил минуту, дожидаясь, пока Джек послушается, но мальчик не шевельнулся. Викарий почувствовал, что самообладание снова ему изменяет: эта дрожащая беспомощность, немой бессильный ужас были для него неодолимым искушением.
— Вставай! — повторил он.
Джек с усилием приподнялся, вскинул глаза. В зрачках его блеснули красные искры, словно вдруг вспыхнул едва тлеющий трут.
— Ну что, — сказал он, — убьете вы меня? Или мне убить вас?
У викария потемнело в глазах, всю свою силу он вложил в слепой удар кулака.
Молча, безжизненным комом Джек свалился к его ногам, и тут викарий понял, что он сделал. В первое мгновенье ему от страха почудилось, что это он сейчас сломал мальчику руку. Он позвал на помощь, из дома выбежала миссис Реймонд.
— Джозайя! Что случилось?
— Помоги внести его в дом и сейчас же пошли за доктором. Скорее!
Она наклонилась, чтобы войти в сарай, — и остановилась как вкопанная, увидев лежавшего на земле Джека. Минуту она молча стояла и смотрела; потом обернулась к мужу:
— Что ты сделал?
Не выдержав ее взгляда, он опустил глаза.
— Не знаю.
Не сказав больше ни слова, она наклонилась и помогла поднять мальчика; и викарий, подобно Филиппу, королю испанскому[6], понял, что подданные его осудили.
Едва придя в себя, Джек вновь терял сознание. Спешно вызванный доктор Дженкинс пощупал ему пульс — и лицо его потемнело.
— Дайте еще коньяку и горячие припарки, быстро! И пошлите за доктором Уильямсом, мне нужен его совет.
Викарий стал чуть ли не так же бледен, как Джек.
— Разве это... опасно? — запинаясь, выговорил он.
— Пульс еле прощупывается. Почему меня не позвали раньше?