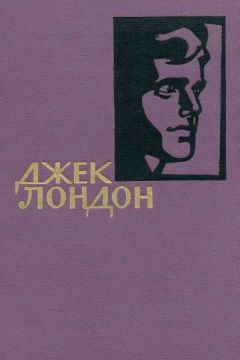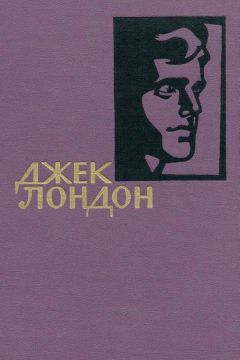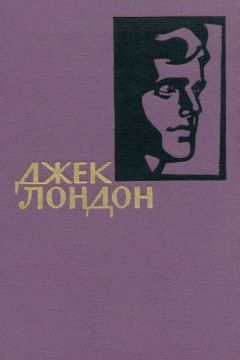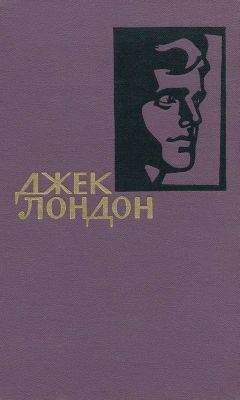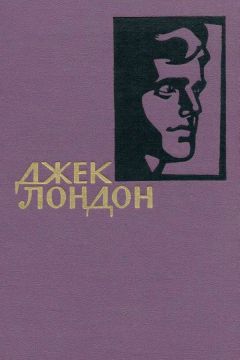Джек Лондон - Джек Лондон. Собрание сочинений в 14 томах. Том 9
Ату их, ату!
Это был пьянчуга шотландец, он глотал неразбавленное виски, как воду, и, зарядившись ровно в шесть утра, потом регулярно подкреплялся часов до двенадцати ночи, когда надо было укладываться спать. Для сна он урывал каких-нибудь пять часов в сутки, остальные же девятнадцать тихо и благородно выпивал. За два месяца моего пребывания на атолле Оолонг я ни разу не видел его трезвым. Он так мало спал, что и не успевал протрезвиться. Такого образцового пьяницу, который пил бы так прилежно и методично, мне еще не приходилось встречать.
Звали его Мак-Аллистер. Посмотреть — хлипкий старикашка, еле на ногах держится, руки трясутся, как у параличного, особенно когда он наливает себе стаканчик, но я ни разу не видел, чтобы он пролил хоть каплю. Двадцать восемь лет носило его по Меланезии, между германской Новой Гвинеей и германскими Соломоновыми островами [7], и он так акклиматизировался в этих краях, что и разговаривал уже на тамошнем тарабарском наречии, которое зовется "beche de mer". Даже говоря со мной, не обходился он без таких выражений, как "солнце, он встал" — вместо "на рассвете", "каи-каи, он здесь" — вместо "обед подан" или "моя пуза гуляет" — вместо "живот болит".
Маленький человек, сухой, как щепка, прокаленный снаружи жгучим солнцем и винными парами изнутри, живой обломок шлака, еще не остывшего шлака, он двигался толчками, как заведенный манекен. Казалось, его могло унести порывом ветра. Он и весил каких-нибудь девяносто фунтов, не больше.
Но, как ни странно, это был царек, облеченный всей полнотою власти. Атолл Оолонг насчитывает сто сорок миль в окружности. Только по компасу можно войти в его лагуну. В то время население Оолонга составляли пять тысяч полинезийцев; все — мужчины и женщины — статные, как на подбор, многие ростом не ниже шести футов и весом в двести фунтов с лишним. От Оолонга до ближайшей земли двести пятьдесят миль. Дважды в год наведывалась сюда маленькая шхуна за копрой.
Мелкий торговец и отпетый пьяница, Мак-Аллистер был на Оолонге единственным представителем белой расы и правил его пятитысячным населением поистине железной рукой. Воля его была здесь законом. Любая его фантазия, любая прихоть исполнялись беспрекословно. Сварливый ворчун, какие нередко встречаются среди стариков шотландцев, он постоянно вмешивался в домашние дела дикарей. Так, когда Нугу, королевская дочь, избрала себе в мужья молодого Гаунау, жившего на другом конце атолла, отец дал согласие; но Мак-Аллистер сказал: "Нет!" — и свадьба расстроилась. Или когда король пожелал купить у своего верховного жреца принадлежавший тому островок в лагуне, Мак-Аллистер опять сказал: "Нет!" Король задолжал Компании сто восемьдесят тысяч кокосовых орехов, и ни один кокос не должен был уйти на сторону, пока не будет выплачен весь долг.
Однако заботы Мак-Аллистера не снискали ему любви короля и народа. Вернее, его ненавидели лютой ненавистью. Как я узнал, жители атолла во главе со своими жрецами на протяжении трех месяцев творили заклинания, стараясь сжить тирана со света. Они насылали на него самых страшных своих духов, но Мак-Аллистер ни во что не верил, и никакой дьявол не был ему страшен. Такого пьяницу шотландца никакими заклятиями не проймешь. Напрасно дикари подбирали остатки пищи, которой касались его губы, бутылки из-под виски и кокосовые орехи, сок которых он пил, даже его плевки и колдовали над ними, — Мак-Аллистер жил не тужил. На здоровье он не жаловался, не знал, что такое лихорадка, кашель или простуда; дизентерия обходила его стороной, как и обычные в этих широтах злокачественные опухоли и кожные болезни, которым подвержены равно белые и черные. Он, верно, так проспиртовался, что никакой микроб не мог в нем уцелеть. Мне представлялось, что, едва угодив в окружающую Мак-Аллистера проспиртованную атмосферу, они так и падают к его ногам мельчайшими частицами пепла. Все живое бежало Мак-Аллистера, даже микробы, а ему бы только виски. Так он и жил!
Это казалось мне загадкой: как могут пять тысяч туземцев мириться с самовластием какого-то старого сморчка? Каким чудом он еще держится, а не скончался скоропостижно уже много лет назад? В противоположность трусливым меланезийцам, местное племя отличается отвагой и воинственным духом. На большом кладбище, в головах и ногах погребенных, хранится немало кровавых трофеев — гарпуны, скребки для ворвани, ржавые штыки и сабли, медные болты, железные части руля, бомбарды, кирпичи — по-видимому, остатки печей на китобойных судах, старые бронзовые пушки шестнадцатого века — свидетельство того, что сюда заходили еще корабли первых испанских мореплавателей. Не один корабль нашел в этих водах безвременную могилу. И тридцати лет не прошло с тех пор, как китобойное судно "Бленнердейл", ставшее в лагуне на ремонт, попало в руки туземцев вместе со всем экипажем. Та же участь постигла команду "Гаскетта", шхуны, перевозившей сандаловое дерево. Большой французский парусник "Тулон" был застигнут штилем у берегов атолла и после отчаянной схватки взят на абордаж и потоплен у входа в Липау. Только капитану с горсточкой матросов удалось бежать на баркасе. И, наконец, испанские пушки — о гибели какого из первых отважных мореплавателей они возвещали? Но все это давно стало достоянием истории, — почитайте "Южно-Тихоокеанский справочник"! О существовании другой истории — неписаной — мне еще только предстояло узнать. Пока же я безуспешно ломал голову над тем, как пять тысяч дикарей до сих пор не расправились с каким-то выродком шотландцем, почему они даровали ему жизнь?
Однажды в знойный полдень мы с Мак-Аллистером сидели на веранде и смотрели на лагуну, которая чудесно отливала всеми оттенками драгоценных камней. За нами на сотни ярдов тянулись усеянные пальмами отмели, а дальше, разбиваясь о прибрежные скалы, ревел прибой. Было жарко, как в пекле. Мы находились на четвертом градусе южной широты, и солнце, всего лишь несколько дней назад пересекшее экватор, стояло в зените. Ни малейшего движения в воздухе и на воде. В этом году юго-восточный пассат перестал дуть раньше обычного, а северо-западный муссон еще не вступил в свои права.
— Сапожники они, а не плясуны, — упрямо твердил Мак-Аллистер.
Я отозвался о полинезийских плясках с похвалой, сказав, что папуасские [8] и в сравнение с ними не идут; Мак-Аллистер же, единственно по причине дурного характера, отрицал это. Я промолчал, чтобы не спорить в такую жару. К тому же мне еще ни разу не случалось видеть, как пляшут жители Оолонга.
— Сейчас я вам докажу, — не унимался мой собеседник и, подозвав туземца с Нового Ганновера, исполнявшего при нем обязанности повара и слуги, послал его за королем: — Эй ты, бой, скажи королю, пусть идет сюда.
Бой повиновался, и вскоре перед Мак-Аллистером предстал растерянный премьер-министр. Он бормотал какие-то извинения: король-де отдыхает и его нельзя тревожить.
— Король здорово крепко отдыхай, — сказал он в заключение.
Это привело Мак-Аллистера в такую ярость, что министр трусливо бежал и вскоре возвратился с самим королем. Я невольно залюбовался этой чудесной парой. Особенно поразил меня король, богатырь не менее шести футов трех дюймов росту. В его чертах было что-то орлиное — такие лица не редкость среди североамериканских индейцев. Он был не только рожден, но и создан для власти. Глаза его метали молнии, однако он покорно выслушал приказание созвать со всей деревни двести человек, мужчин и женщин, лучших танцоров. И они действительно плясали перед нами битых два часа под палящими лучами солнца. Пусть они за это еще больше возненавидели Мак-Аллистера — плевать ему было на чувства туземцев, и домой он проводил их бранью и насмешками.
Рабская покорность этих великолепных дикарей все сильнее и сильнее меня поражала. Я спрашивал себя: как это возможно? В чем тут секрет? И я все больше терялся в догадках, по мере того как новые доказательства этой непререкаемой власти вставали предо мной, но так и не находил ей объяснения.
Однажды я рассказал Мак-Аллистеру о своей неудаче: старик туземец, обладатель двух великолепных золотистых раковин "каури", отказался променять их мне на табак. В Сиднее я заплатил бы за них не менее пяти фунтов. Я предлагал ему двести плиток табаку, а он просил триста. Когда я упомянул об этом невзначай, Мак-Аллистер вызвал к себе туземца, отобрал у него раковины и отдал мне. Красная цена им, рассудил он, пятьдесят плиток, и чтобы я и думать не смел предлагать больше. Туземец с радостью взял табак. Очевидно, он и на это не рассчитывал. Что касается меня, то я решил в будущем придержать язык. Я еще раз подивился могуществу Мак-Аллистера и, набравшись храбрости, даже спросил его об этом; Мак-Аллистер только хитро прищурился и с глубокомысленным видом отхлебнул из стакана.
Как-то ночью мы с Отти — так звали обиженного туземца — вышли в лагуну ловить рыбу. Я втихомолку вручил старику недоданные сто пятьдесят плиток, чем заслужил величайшее его уважение, граничившее с каким-то детским обожанием, тем более удивительным, что человек этот годился мне в отцы.