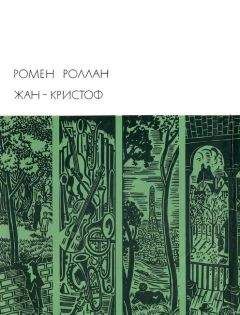Владимир Набоков - Дар
«Послушайте, надо бы как-нибудь переменить разговор, – тихо сказала Чернышевская, – я этих штук для него боюсь. У вас верно есть новые стихи, правда? Федор Константинович прочтет стихи», – закричала она, – но Васильев, полулежа, в одной руке держа монументальный мундштук с безникотиновой папиросой, а другой рассеянно теребя куклу, производившую какие-то эмоциональные эволюции у него на колене, продолжал еще с полминуты рассказывать о том, как вчера разбиралась в суде эта веселая история.
«Ничего у меня с собой нет, и я ничего не помню», – несколько раз повторил Федор Константинович.
Чернышевский быстро к нему обернулся и положил ему на рукав свою маленькую волосатую руку. «Я чувствую, вы все еще на меня дуетесь. Честное слово, нет? Я потом сообразил, как это было жестоко. У вас скверный вид. Что у вас слышно? Вы мне так и не объяснили толком, почему вы переехали».
Он объяснил: в пансионе, где он прожил полтора года, поселились вдруг знакомые, – очень милые, бескорыстно навязчивые люди, которые «заглядывали поболтать». Их комната оказалась рядом, и вскоре Федор Константинович почувствовал, что между ними и им стена как бы рассыпалась, и он беззащитен. Но Яшиному отцу, конечно, никакой переезд не помог бы.
Посвистывая, согнув слегка спину, громадный Васильев рассматривал корешки книг на полках; вынул одну и, раскрыв ее, перестал свистать, но зато, шумно дыша, начал про себя читать первую страницу. Его место на диване заняла Любовь Марковна с сумкой: обнажив усталые глаза, она обмякла и теперь приглаживала неизбалованной рукой Тамарин золотой затылок.
«Да! – резко сказал Васильев, захлопнув книгу и вдавив ее в первую попавшуюся щель; – все на свете кончается, товарищи. Мне лично нужно завтра вставать в семь».
Инженер Керн посмотрел себе на кисть.
«Ах посидите еще, – проговорила Чернышевская, просительно сияя синевой глаз, и обратившись к инженеру, вставшему и зашедшему за свой стул, и убравшему его на вершок в сторону (как иной, напившись, перевернул бы на блюдце стакан), она заговорила о докладе, который тот согласился прочитать в следующую субботу, – доклад назывался “Блок на войне”».
«Я на повестках по ошибке написала “Блок и война”, – говорила Александра Яковлевна, – но ведь это не играет значения?»
«Нет, напротив, очень даже играет, – с улыбкой на тонких губах, но с убийством за увеличительными стеклами, отвечал инженер, не разнимая сцепленных на животе рук. – “Блок на войне” выражает то, что нужно, – персональность собственных наблюдений докладчика, – а “Блок и война” это, извините, – философия».
И тут все они стали понемногу бледнеть, зыблиться непроизвольным волнением тумана – и совсем исчезать; очертания, извиваясь восьмерками, пропадали в воздухе, но еще поблескивали там и сям освещенные точки, – приветливая искра в глазу, блик на браслете; на мгновение еще вернулся напряженно сморщенный лоб Васильева, пожимающего чью-то уже тающую руку, а совсем уже напоследок проплыла фисташковая солома в шелковых розочках (шляпа Любовь Марковны), и вот исчезло все, и в полную дыма гостиную, без всякого шума, в ночных туфлях, вошел Яша, думая, что отец уже в спальне, и с волшебным звоном, при свете красных фонарей, невидимки чинили черную мостовую на углу площади, и Федор Константинович, у которого не было на трамвай, шел пешком восвояси. Он забыл занять у Чернышевских те две-три марки, с которыми дотянул бы до следующей получки: сама по себе мысль об этом не беспокоила бы его, если бы не сочеталась, укрепляя горечь всего сочетания, с отвратительным разочарованием (уж слишком ярко он было вообразил успех своей книги), и с холодной течью в левом башмаке, и с боязнью предстоящей ночи на новом месте. Его томила усталость, недовольство собой, – потерял зря нежное начало ночи; его томило чувство, что он чего-то не додумал за день, и теперь не додумает никогда.
Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство, – мало того, рассчитывали на любовь; и даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку; он шел по этим темно-блестящим улицам, и погасшие дома уходили, не глядя, кто пятясь, кто боком, в бурое небо берлинской ночи, где все-таки были там и сям топкие места, тающие под взглядом, который таким образом выручал несколько звезд. Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка и еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана, и тут же общественная уборная, похожая на пряничный домик бабы-Яги. Во мраке сквера, едва задетого веером уличного света, красавица, которая вот уже лет восемь все отказывалась воплотиться снова (настолько жива была память о первой любви), сидела на пепельной скамейке, но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола. Он свернул на свою улицу и погрузился в нее, как в холодную воду, – так не хотелось, такую тоску обещала та комната, недоброжелательный шкап, кушетка. Отыскав свой подъезд (видоизмененный темнотой), он достал ключи. Ни один из них двери не отпер.
«Что такое…» – сердито пробормотал он, глядя на бородку, – и снова, стервенея, принялся совать. «Что за черт!» – воскликнул он и отступил, чтобы задрать голову и посмотреть на номер дома. Нет, – правильно. Он опять было нагнулся к замку, – и вдруг его осенило: это были, конечно, ключи пансионские, которые при сегодняшнем переезде он с собой нечаянно в макинтоше увез, а новые остались должно быть в комнате, в которую ему теперь хотелось попасть гораздо сильнее, чем только что.
В те годы берлинские швейцары были по преимуществу зажиточные, с жирными женами, грубияны, принадлежавшие из мещанских соображений к коммунистической партии. Русские жильцы перед ними робели: привыкши к подвластности, мы всюду себе назначаем тень надзора. Федор Константинович вполне понимал, как глупо бояться старого дурака с кадыком, а все-таки разбудить его за полночь, вызвать из-под исполинской перины, сделать вот это движение, чтобы нажать кнопку (хотя весьма вероятно, что не откликнулся бы никто, сколько ни жми), никак не решался, тем более, что не было того гривенника, без которого немыслимо было пройти мимо ладони, на уровне бедра раскрытой мрачным ковшом: не сомневающейся в дани.
«Вот так штука, вот так штука», – шептал он, отходя и чувствуя, как сзади, от затылка до пят, наваливается на него бремя бессонной ночи, железный двойник, которого надо куда-то нести. «Как это глупо», – сказал он еще, произнося «глупо» с французским «l», как это делывал – рассеянно и привычно шутливо, – его отец, когда бывал чем-нибудь озадачен.
Не зная, что предпринять, ждать ли, что кто-нибудь впустит, пойти ли на розыски ночного сторожа в черном плаще, который блюдет замки на некоторых улицах, или все-таки заставить себя звонком взорвать дом, Федор Константинович начал шагать по панели до угла и обратно. Улица была отзывчива и совершенно пуста. Высоко над ней, на поперечных проволоках, висело по млечно-белому фонарю; под ближайшим из них колебался от ветра призрачный круг на сыром асфальте. И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то однако, со звенящим тамбуринным звуком, что-то столкнуло с края души, где это что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось «Благодарю тебя, отчизна…», и тотчас, обратной волной: «за злую даль благодарю…». И снова полетело за ответом: «…тобой не признан…». Он сам с собою говорил, шагая по несуществующей панели; ногами управляло местное сознание, а главный, и в сущности единственно важный, Федор Константинович уже заглядывал во вторую качавшуюся, за несколько саженей, строфу, которая должна была разрешиться еще неизвестной, но вместе с тем в точности обещанной гармонией. «Благодарю тебя…» – начал он опять вслух, набирая новый разгон, но вдруг панель под ногами окаменела, все кругом заговорили сразу, и он кинулся, мигом отрезвясь, к двери своего дома, ибо за нею был теперь свет.
Скуластая, немолодая дама, в накинутом, сползавшем с плеча, каракулевом жакете, кого-то выпуская, задержалась вместе с выпускаемым в дверях. «Так вы не забудьте, золотце», – просила она вялым житейским голосом, когда подоспел, осклабясь, Федор Константинович, тотчас ее узнавший: нынче утром встречала с мужем свою мебель. Но и выпускаемого он тоже узнал, – это был молодой живописец Романов: раза два сталкивался с ним в редакции. С удивленным выражением на изящном лице, эллинскую чистоту коего бесповоротно портили темные, кривые зубы, он поздоровался с Федором Константиновичем, который затем, неловко поклонившись даме, державшей самое себя за ключицы, огромными шагами кинулся вверх по лестнице, отвратительно споткнулся на загибе ее и дальше полез, трогая перила. Заспанная, в халате, Стобой была страшна, но это продолжалось недолго. У себя в комнате он с трудом нащупал свет. На столе блестели ключи, и белелась книга. «Уже кончилась», – подумал он. Так недавно он раздаривал знакомым экземпляры, со строгим приветом, на искренний суд, а теперь было стыдно вспомнить и эти надписи, и то, как все последние дни он жил счастьем книги. А ведь ничего особенного не произошло: нынешний обман не исключал завтрашней или послезавтрашней награды, но каким-то образом он пресытился мечтой, и теперь книга лежала на столе, вся в себе заключенная, собою ограниченная и законченная, и уже не изливалась могучими, радостными лучами, как прежде.