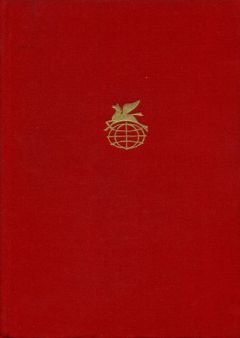Максим Горький - Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы
— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:
— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:
— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?
Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, — изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:
— Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто — товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: «Это техник, профессор? Ленин?» Страшно удивились: «Как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация!» — Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин…
А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохатывал и говорил об изобретателе:
— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.
Залился смехом, потом спросил:
— Говорите, у И. есть еще изобретение?[175] В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!
Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто — по слухам — не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.
Я был очень удивлен его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого, — Владимир Ильич подметил мое удивление.
— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но — что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных спецов.
Помолчав, он добавил потише и невесело:
— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то… нехорошее, от Лассаля…[176]
Эти слова: «С нами, а — не наш» — я слышал от него дважды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо. Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичем, а Владимир Ильич, не глядя на него, писал.
— Знаете этого? — спросил он, показав пальцем на дверь; я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемирной литературы».[177]
— И — что?
— Могу сказать: невежественный и грубый человек.
— Гм-гм… Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.
Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.
О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам:
— Аппарат у нас — пестренький, после Октября много влезло в него чужих людей. Это — по вине благочестивой и любимой вами интеллигенции, это — следствие ее подлого саботажа, да-с!
Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, почему я заговорил об Алексинском,[178] кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку.
— Можете представить: с первой же встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда, никто не вызывал у меня такого чувства. Приходилось вместе работать, всячески одергивал себя, неловко было, а — чувствую: не могу я терпеть этого выродка!
И, удивленно пожав плечами, сказал:
— А вот негодяя Малиновского не мог раскусить.[179] Очень это темное дело, Малиновский…
Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».
— Загадочный вы человек, — сказал он мне шутливо, — в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик. У вас все — жертвы истории? Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.
Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:
— Приедете — позвоните, повидаемся.
А однажды сказал:
— Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.
Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об ученых, — я в то время работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта ученых».[180] Интересовался пролетарской литературой:
— Чего вы ждете от нее?
Я говорил, что жду много, но считаю совершенно необходимым организацию литвуза[181] с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока, — по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской.
— Гм-гм, — говорил он, прищуриваясь и похохатывая. — Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут… Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.
И жаловался:
— Читать совершенно нет времени!
Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:
— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди.
К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:
— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, — не то и мало понятно. Рассыпано все, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.
Я сказал, что тяготение молодежи к песне — естественно в такие дни и что — на мой взгляд — посредственные стихи легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи — меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.
— Ну, что стихи легче прозы — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу, — сказал он и нахмурился. — В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.
Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами.
Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, — умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!
Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение, — значение вождя всемирного трудового народа.
И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.
И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.
Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.
1924, 1930ПЬЕСЫ
На дне[182]
Посвящаю
Константину Петровичу Пятницкому
М. ГорькийМихаил Иванов Костылев, 54 лет, содержатель ночлежки.
Василиса Карповна, его жена, 26 лет.
Наташа, ее сестра, 20 лет.
Медведев, их дядя, полицейский, 50 лет.
Васька Пепел, 28 лет.
Клещ Андрей Митрич, слесарь, 40 лет.