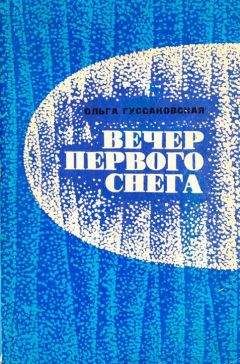Генри Джеймс - Повести и рассказы
Он вернулся из Парижа, между ними все снова уладилось; оба они снова плечом к плечу шли навстречу жизни, продолжая вести с ней свою большую запутанную игру. Тонкое, беззвучное биение этой игры реяло в воздухе, и девушка слышала его все время, пока они оставались в конторе. Пока они оставались? Да они оставались там весь день: их присутствие не исчезало, а длилось, оно было во всем, что ей приходилось делать до самого вечера, в тысячах чужих слов, которые она считала, чтобы потом передать, в каждой марке, которую она отрывала, в каждом письме, которое взвешивала, в разменной монете, которою она давала сдачу, — и каждую из этих операций она совершала в равной степени безучастно и безошибочно и вместе с тем, когда во второй половине дня в конторе скопилось много народу, ни разу не взглянув ни на одно из появлявшихся перед ней уродливых лиц и не слыша ни одного из глупых вопросов, которые ей задавали и на которые она, однако, терпеливо и обстоятельно отвечала. Сейчас она могла уже все стерпеть: после его слов все вопросы были неминуемо глупы, все лица — уродливы. Она была уверена, что ей захочется снова увидеть его спутницу; теперь, может быть — и даже скорее всего, — ей захочется видеть ее часто. Но с ним дело обстояло совсем иначе; ей нельзя, да, ей больше никогда нельзя его видеть. Ей слишком его не хватало. Бывает томление, которое помогает жить — к этому выводу ее привел богатый собственный опыт, — и бывает другое, которое становится роковым. Ее было именно таким: оно лишало ее покоя.
Однако случилось так, что она увидела его на следующий же день, и на этот раз все было совсем иначе; смысл, заключавшийся в каждом слоге написанных им слов, звучал отчетливо и неумолимо. Она действительно ощущала, как ее карандаш слегка касается его букв, как будто лаская их на ходу, как будто вдыхая жизнь в каждый начертанный им штрих. Он пробыл в конторе долго; телеграммы свои он не заготовил заранее и теперь писал их тут же, за стойкою в уголке; кроме того, была целая толпа приходивших и уходивших людей, с каждым из которых надо было заниматься отдельно и без конца считать и пересчитывать сдачу и давать всевозможные справки. Но сквозь всю эту сутолоку она ощущала его присутствие; связь ее души с ним была так же неразрывна, как та, которая, на ее счастье, установилась у мистера Бактона со злосчастным клопфером за ненавистным ей толстым стеклом. За одно утро все вдруг переменилось, но в перемене этой было и нечто безотрадное; ей пришлось примириться с провалом своей теории роковых желаний, и это нисколько ее не смутило — напротив, все обошлось очень легко; однако сейчас не приходилось уже сомневаться, что он живет совсем рядом на Парк-Чеймберс и принадлежит всем существом своим к тому слою людей, который привык все передавать только по телеграфу — все, даже свои столь дорого обходящиеся чувства (ведь коль скоро он никогда не прибегал к конвертам и почтовой бумаге, ему приходилось тратить на переписку по многу фунтов в неделю и выходить из дому иногда по пяти раз в день); вместе с тем в этот вид общения по причине присущего ему избытка гласности вкрадывалась некая неизбывная грусть, от которой можно было почувствовать себя несчастным. Грусть эта стремительно вторгалась в тот строй чувств, о котором сейчас пойдет речь.
Меж тем в течение целого месяца он оставался верен себе. Сисси, Мери ни разу не появлялась вместе с ним; приходил он либо один, либо в сопровождении какого-нибудь мужчины, которого источаемое им сияние начисто затмевало. Было, впрочем, и еще одно обстоятельство — а в сущности, даже больше, чем одно, — которое позволяло ей думать, что ей удалось приобщиться к жизни того удивительного существа, через которого она впервые о нем узнала. Обращаясь к ней, он не называл ее ни Мери, ни Сисси; но девушка была убеждена, что именно ей, жившей на Итон-сквер, он адресовал все свои телеграммы — и так неукоснительно! — как к леди Бредйн. Леди Бредин была Сисси, леди Бредин была Мери, леди Бредйн была приятельницей Фрица и Гасси, заказчицей Маргерит и близкой подругой (что было сущею правдой, только она не могла подыскать нужного для обозначения этого понятия слова) самого замечательного из всех мужчин. Ничто не могло сравниться с частотой и разнообразием обращенных к ее светлости посланий, разве что их необычайная точность и полнота. Это было похоже на разговор, льющийся подчас так свободно, что она спрашивала себя, а что же в конце концов еще остается этим счастливейшим людям сказать друг другу при встречах. А встречались они, должно быть, очень часто, ибо в половине всех телеграмм назначались свидания и прорывались намеки, которые тонули в целом море других намеков; все было запутано и сложно, и от этого жизнь их представлялась совершенно необычайной. Коль скоро леди Бредин была Юноной, то оба они, должно быть, жили как олимпийцы. Пусть оттого, что ей не удавалось видеть ответные телеграммы с излияниями чувств, исходившими от ее светлости, девушке хотелось иногда, чтобы контора Кокера была одной из более крупных контор — не только местом, откуда можно было отправлять телеграммы, но и таким, где их принимали, — у нее все же была возможность представить себе, как развивалась история их любви, ибо сама она в избытке обладала даром воображения. Ей, однако, никак не удавалось в точности определить, чем ее новый друг — а именно так она называла его про себя — бывал занят в такие-то дни и часы, и, как ни много всего она о нем знала, ей бы хотелось знать еще и еще. И она действительно узнавала о нем все больше.
И тем не менее даже месяц спустя она вряд ли могла бы сказать, приходил он всякий раз все с тем же спутником, или спутники эти менялись, даже невзирая на то, что люди эти, в свою очередь, отправляли письма и давали телеграммы, дымили ей прямо в лицо, ставили или нет свою подпись на бланке. Мужчины, приходившие вместе с ним, вообще ничего не значили, когда рядом был он. Иногда, правда, они приходили одни, и, может быть, только тогда посылаемые ими сообщения, как они ни были туманны, могли что-то значить. Он же, находился он тут или нет, значил всё. Это был очень высокого роста светлый блондин, и, несмотря на всю свою погруженность в заботы, он обладал добродушием — тем более удивительным, что иногда создавалось впечатление, что именно оно-то и помогает ему владеть собой. Он всегда имел возможность подойти без очереди, кто бы в эту минуту ни стоял впереди, и любой бы, не говоря ни слова, его пропустил, но он был так необычайно предупредителен, что всякий раз терпеливо ждал; она ни разу не видела, чтобы он размахивал над головами других своей телеграммой, ни разу не слышала от него ужасающего по своей резкости: «Примите!» Он пережидал всех праздных старых дам, всех зевак-лакеев, всех вечных посыльных от Траппа; главным же во всем этом, тем, чему ей непременно хотелось найти подтверждение, была тайная мысль, что он отличает ее от других, что она сама по себе может что-то для него значить. Бывали минуты, когда ей чудилось, что он как бы становится на ее сторону, старается помочь ей, облегчить ее труд.
Однако натура нашей девушки была такова, что она подчас даже с неким раздражением напоминала себе, что, когда люди исключительно хорошо воспитаны — речь шла, разумеется, о людях высшего света, — никогда нельзя распознать, что за этой воспитанностью таится. Воспитанность эта в одинаковой степени распространялась на каждого, с кем они общались, и если оказывалось, что человек несчастен, истерзан жизнью и замкнут, то она, напротив, только безнадежно его угнетала. Что же касалось ее героя, то он считал само собой разумеющимся, что все в жизни дается легко; сама обходительность его, его манера закуривать сигарету, когда приходилось ждать, само обладание его всеми удобствами, преимуществами и благами жизни — все это было частью того великолепного ощущения собственной устойчивости, инстинкта, который убеждал его, что на свете нет ничего, могущего нанести ущерб такой вот его жизни. Он умел быть одновременно и очень веселым, и очень серьезным, выглядеть и совсем юным, и умудренным опытом; и то, чем он был в ту или иную минуту, равно как и все остальное в нем, постоянно выражало это его неизбывное торжество. Иногда он звался Эверардом, как то было в отеле «Брайтон», иногда — капитаном Эверардом. Иногда перед фамилией своей он ставил имя Филип, а иногда подписывался Филип, не добавляя фамилии. Для кого-то он был просто Фил, для других — просто капитан; для иных он был ни тем, ни другим, ни третьим, но чем-то совершенно иным и называл себя графом. Было несколько друзей, для которых он был Уильямом. Существовало и еще несколько человек, в обращении к которым он именовал себя «краснощеким» — может быть, потому, что действительно обладал хорошим цветом лица. Как-то раз, всего лишь раз, и это была, должно быть, простая случайность, он невесть почему назвался слишком хорошо ей знакомым именем Мадж, и странное совпадение это ее рассмешило. Да, все, чем он когда-либо был, становилось частью его благоденствия, — все, чем он был и, может быть, даже чем не был. А благоденствие это было частью — оно становилось ею мало-помалу — чего-то, что едва ли не с его первого появления в конторе Кокера глубоко запало в сердце девушки.