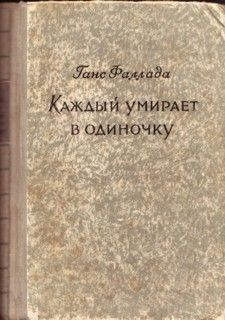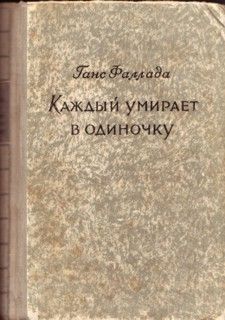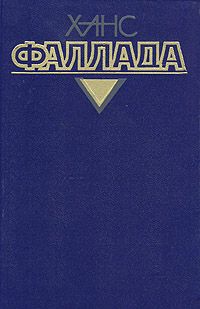Один в Берлине - Фаллада Ганс
Старый сменный мастер подпер голову руками и на несколько минут вроде как погрузился в полудрему. Семичасовые слушания, во время которых он ни разу не позволил себе отвлечься, измучили его. Призрачные картины плыли перед его взором: когтистая лапа председателя Файслера, которая то сжималась, то разжималась, защитник Анны, ковыряющий в носу, маленький горбун Хефке, пожелавший взлететь, Анна, которая, покраснев, сказала «восемьдесят семь» и глаза которой сверкали таким веселым превосходством, какого он никогда за ней не замечал, и множество других картин, множество… других… картин…
Квангель устал, так устал, надо поспать, хотя бы пять минут…
Он положил на стол локоть, а на него голову. Задышал ровно и спокойно. Всего лишь пять минут крепкого сна, короткие минуты забвения.
Но он тотчас проснулся. Что-то в этом зале разрушило желанный покой. Широко распахнутыми глазами он огляделся по сторонам, и взгляд его упал на отставного советника апелляционного суда Фромма, тот стоял у барьера и вроде как делал ему знаки. Квангель еще раньше заметил старика, ведь от его напряженного внимания, кажется, вообще ничего не укрылось, но при множестве волнительных впечатлений этого дня он не особо наблюдал за бывшим соседом по Яблонскиштрассе.
Теперь советник, стало быть, стоял у барьера и делал ему знаки.
Квангель бросил взгляд на полицейских. Они стояли шагах в трех от него, ни один прямо на него не смотрел, оба увлеклись весьма оживленным разговором. Квангель как раз услышал:
— И тут я цап этого малого за шкирку…
Сменный мастер встал, крепко подхватил брюки обеими руками и шаг за шагом прошел вдоль всего барьера к советнику.
Тот стоял опустив взгляд, словно и не видел приближающегося арестанта. А потом — Квангель был всего в нескольких шагах от него — советник быстро отвернулся и между рядами стульев направился к выходу. Но на барьере остался белый сверточек, маленький, меньше катушки ниток.
Одолев последние несколько шагов, Квангель схватил сверточек и спрятал сперва в ладони, а затем в кармане брюк. На ощупь что-то твердое. Он обернулся — полицейские пока что не заметили его отлучки. Дверь зала суда закрылась, советник апелляционного суда исчез.
Квангель двинулся в обратный путь, к своему месту. Он разволновался, сердце билось учащенно, ведь это приключение едва ли кончится добром. И ради чего старый советник пошел на такой огромный риск, ради чего подсунул ему сверточек?
Квангелю оставалось до места три-четыре шага, когда один из полицейских вдруг увидел происходящее. Испуганно вздрогнув, он в замешательстве посмотрел на пустой стул Квангеля, словно хотел удостовериться, что обвиняемого там вправду нет, а потом чуть ли не с ужасом выкрикнул:
— Что вы там делаете?
Второй полицейский тоже всполошился, уставился на Квангеля. В замешательстве оба стояли как вкопанные, даже не думали тащить арестанта на место.
— Мне бы в уборную, господин полицейский! — сказал Квангель.
Полицейский быстро успокоился, только буркнул:
— Так чего один-то поперся? Докладать надо!
Он еще не договорил, а Квангель вдруг подумал, что ему хочется, чтобы его вывели, как Анну. Пусть их оглашают свой приговор без обоих обвиняемых, удовольствия им от этого порядком поубавится. Ему, Квангелю, приговор совершенно неинтересен, он его и так знает. Вдобавок он очень хотел выяснить, какую такую важную штуку передал ему старый советник.
Полицейские добрались до Квангеля, подхватили его под руки, которые держали брюки.
Квангель холодно взглянул на них и сказал:
— Гитлер, сдохни!
— Чего-о? — Оба были ошеломлены, не верили своим ушам.
А Квангель продолжил, очень быстро и очень громко:
— Гитлер, сдохни! Геринг, сдохни! Геббельс, сволочь, сдохни! Штрейхер [42], сдохни!
Удар кулака в челюсть оборвал эту филиппику. Полицейские выволокли бесчувственного Квангеля из зала.
Так вот и получилось, что председатель Файслер все-таки оглашал приговор в отсутствие обоих обвиняемых. Зря верховный судья милостиво не заметил оскорбления по адресу адвоката. И Квангель оказался прав: оглашение приговора в отсутствие обвиняемых не доставило председателю удовольствия, ни малейшего. А ведь он измыслил превосходные ругательные формулировки.
Файслер еще говорил, когда Квангель открыл глаза в камере ожидания. Подбородок болел, вся голова гудела от боли, он лишь с трудом припомнил случившееся. Рука осторожно ощупала карман брюк: слава богу, сверточек на месте.
Из коридора доносились шаги часового, потом стихли, а от двери послышался тихий шуршащий звук: отодвинули заслонку глазка. Квангель закрыл глаза, лежал будто все еще в беспамятстве. После бесконечно долгих секунд снова тот же шуршащий звук и снова шаги часового в коридоре…
Глазок закрылся, следующие две-три минуты часовой наверняка в камеру не заглянет.
Квангель тотчас слазил в карман, вытащил сверточек. Снял веревочку, которой он был обвязан, развернул записку, обернутую вокруг стеклянной ампулы, и прочел машинописный текст: «Синильная кислота, безболезненно убивает за несколько секунд. Спрятать во рту. О жене тоже позаботятся. Записку уничтожить!»
Квангель усмехнулся. Добрый старикан! Замечательный старикан! Он жевал записку, пока она не размякла, потом проглотил.
С любопытством рассматривал ампулу с прозрачной, как вода, жидкостью. Быстрая, безболезненная смерть, сказал он себе. Эх, знали бы вы! И об Анне тоже позаботятся. Он думает обо всем. Добрый старикан!
Он сунул ампулу в рот. Прикинул так и этак: лучше всего спрятать между десной и коренными зубами, как шпильку, деревянную шпильку, какие использовали многие рабочие в столярной мастерской. Ощупал щеку. Нет, не выпирает. А если они вправду что-то заметят, то, прежде чем сумеют отобрать, он раскусит эту штуку зубами.
Квангель опять усмехнулся. Теперь он действительно свободен, теперь у них нет над ним вообще никакой власти!
Глава 67
Тюрьма для смертников
Теперь Отто Квангель находится в Плётцензее, в тюрьме для смертников. Теперь его последняя обитель на этой земле — одиночная камера.
Да, он сидит в одиночке: у приговоренных к смерти больше нет спутников, нет ни доктора Райххардта, ни даже «пса». У приговоренных к смерти спутник один — смерть, так требует закон.
Они занимают целое здание, эти приговоренные к смерти, десятки, а то и сотни, камера к камере. По коридору все время вышагивают караульные, все время слышен металлический лязг, всю ночь во дворах лают собаки.
Но призраки в камерах сидят тихо, в камерах царит покой, не слышно ни звука. Они сидят тихо-тихо, эти обреченные на смерть! Собранные со всей Европы, мужчины, юноши, почти мальчики, немцы, французы, голландцы, бельгийцы, норвежцы, люди хорошие, и слабые, и злые, все темпераменты — от сангвиников до холериков и меланхоликов. Но здесь различия стираются, все они затихли, стали призраками самих себя. Лишь изредка до Квангеля ночью доносятся всхлипы, и снова тишина, тишина… тишина…
Он всегда любил тишину. Последние месяцы ему приходилось вести жизнь, в корне противную его натуре: он никогда не оставался один, поневоле часто говорил, это он-то, ненавидевший болтовню. И вот теперь снова, в последний раз, он вернулся к привычному образу жизни, в тишину, в терпение. Доктор Райххардт — хороший человек, многому его научил, но теперь, так близко к смерти, лучше жить без доктора Райххардта.
У доктора Райххардта он перенял привычку налаживать в камере размеренную жизнь. Всему отведено свое время: умывание, несколько гимнастических упражнений (он подсмотрел их у сокамерника), часовая прогулка утром и во второй половине дня, тщательная уборка камеры, еда, сон. Есть здесь и книги для чтения, каждую неделю в камеру приносят шесть книг; но тут он остался верен себе, даже не смотрит на них. Не начинать же читать на старости лет.