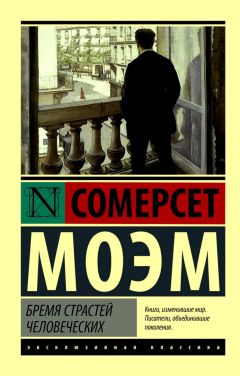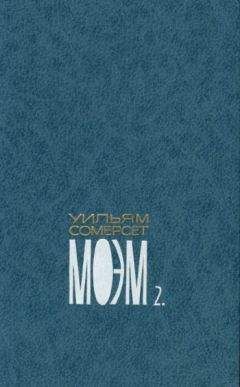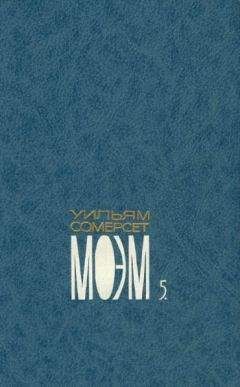Уильям Моэм - Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Бремя страстей человеческих. Роман
В стенной панели был потайной шкафчик; он достал оттуда свиток со своей родословной и показал его Филипу с ребяческим удовольствием. Родословная и в самом деле была внушительная.
— Видите, как повторяются наши семейные имена — Торп, Ательстан, Гарольд, Эдвард; я дал их своим мальчикам. А девочкам, как видите, я дал имена испанские.
В душе Филипа шевельнулось неприятное подозрение, что вся эта история была только выдумкой, рассказанной, правда, без всякой низменной цели, просто из желания произвести впечатление, удивить, поразить. Ательни сообщил ему, что учился в знаменитой школе в Винчестере, но Филипу, тонко различавшему оттенки людского поведения, не верилось, что тот воспитывался в одном из лучших закрытых учебных заведений. Когда Ательни объяснял ему, какие родовитые браки заключали его предки, Филип подумал, не был ли он сыном какого-нибудь торговца в Винчестере, комиссионера или владельца угольного склада и просто однофамильцем тех именитых дворян, чье родословное дерево он показывал с такой гордостью.
ГЛАВА 88
В дверь постучали, вошел весь выводок детей. Теперь они были умыты и опрятно одеты; лица сияли чистотой, и волосы были приглажены; под предводительством Салли они отправлялись в воскресную школу. Ательни принялся с ними шутить, как всегда по-актерски, с преувеличенным жаром, но не мог скрыть, что души в них не чает. Он трогательно гордился их красотой и здоровьем. Филип заметил, что они несколько робеют в его присутствии; когда отец их выпроводил, они убежали с явным облегчением. Через несколько минут появилась миссис Ательни. Она сняла свои папильотки, и волосы у нее были замысловато причесаны. На ней были простое черное платье и шляпа с искусственными цветами, и она с трудом натягивала черные лайковые перчатки на свои красные натруженные руки.
— Я ухожу в церковь,— объявила она.— Вам ведь больше ничего не нужно?
— Что ж, помолись за меня,— сказал Ательни.
— Мои молитвы тебе уже не помогут: слишком поздно,— улыбнулась она. Потом, повернувшись к Филипу, произнесла нараспев: — Никак не могу заставить его ходить в церковь. Чем он лучше какого-нибудь атеиста?
— Ну, разве она не похожа на вторую жену Рубенса? — воскликнул Ательни.— Как бы она великолепно выглядела в костюме семнадцатого века! Вы только на нее поглядите!
— Ты кому угодно заморочишь голову, Ательни,— спокойно отозвалась его жена.
Ей наконец удалось застегнуть перчатки; уходя, она сказала Филипу с доброй, немного смущенной улыбкой:
— Вы останетесь пить чай? Ательни так бывает рад, когда у него есть с кем поговорить, а ему ведь не часто удается залучить образованного человека.
— Конечно, он останется пить чай,— сказал Ательни. Когда жена ушла, он добавил: — Я за то, чтобы дети посещали воскресную школу, и рад, что Бетти ходит в церковь. По-моему, женщина должна быть набожной. Сам я неверующий, но мне нравится, когда женщины и дети верят в бога.
Пуританина Филипа слегка покоробило такое легкомыслие.
— Но разве можно позволять, чтобы ваших детей учили тому, во что вы сами не верите? — спросил он.
— Лишь бы их учили тому, что прекрасно,— мне все равно, правда это или нет. Нельзя же требовать, чтобы одно и то же удовлетворяло и ваш рассудок и ваше эстетическое чувство. Я хотел, чтобы Бетти стала католичкой — мне было бы приятно видеть, как ее крестят в венце из бумажных роз,— но она закоренелая протестантка. Помимо всего прочего религия — вопрос темперамента: если у вас религиозный склад ума, вы поверите во что угодно, а если нет, то, какую бы веру вам ни внушали, вы от нее все равно отречетесь. Думаю, что религия — лучший воспитатель нравственности. Она похожа на одно из тех лекарств, применяемых у вас в медицине, в раствор которого вводят другое вещество; сам по себе раствор не оказывает целебного действия, но он помогает организму усвоить основное снадобье. Вы усваиваете нравственные понятия потому, что они связаны с религией, и, когда вы теряете веру, нравственные понятия остаются. Человеку легче стать порядочным, впитав в себя порядочность через веру в бога, чем изучив Герберта Спенсера.
Эта теория противоречила всем убеждениям Филипа. Он по-прежнему считал христианскую религию позорным рабством, бремя которого надо сбросить во что бы то ни стало; подсознательно он ассоциировал ее с тоскливыми службами в Теркенберийском соборе и долгими, томительными часами в холодной церкви Блэкстебла. Мораль, о которой говорил Ательни, была для него всего лишь пережитком религиозных убеждений, за который цепляется робкий ум, сумевший все же проститься с верой, хотя она одна только и придавала морали какой-то смысл. Но пока Филип обдумывал, что́ ему ответить, Ательни, предпочитавший не спорить, а слушать самого себя, пустился разглагольствовать о католицизме. Он считал, что католицизм — неотъемлемая часть Испании, а Испания ему дорога: туда он бежал от условностей, которые так угнетали его в годы брачной жизни. Бурно жестикулируя и со всегдашним своим пафосом, придававшим всему, о чем он говорит, такую выразительность, Ательни описывал Филипу испанские соборы, настолько громадные, что дальние углы их теряются во мгле, массивное золото алтарей, великолепные кованые решетки со стертой позолотой, воздух, пропитанный ладаном, тишину. Филип видел чуть ли не воочию каноников в коротких батистовых стихарях, облаченных в красное служек, шествующих из ризницы на хоры; в ушах его звучало монотонное церковное пение. Имена, которые называл Ательни,— Авила, Таррагона, Сарагоса, Сеговия, Кордова — трубным гласом отзывались в его душе. Перед его глазами вставали серые гранитные громады, высившиеся посреди старинных испанских городов на фоне бурого, дикого, овеянного ветрами пейзажа.
— Мне всю жизнь хотелось поехать в Севилью,— заметил он, когда Ательни на секунду замолчал, красноречиво воздев руку.
— В Севилью? — вскричал Ательни.— Нет, нет, только не туда! Севилья вызывает у меня в памяти девушек, пляшущих с кастаньетами, пение в садах на берегу Гвадалквивира, бой быков, апельсиновые деревья в цвету, мантильи — mantones de Manila[*101]. Это опереточная Испания, та Испания, которую вам показывают в кабачках Монмартра. Доступная прелесть Севильи может надолго увлечь лишь поверхностный ум. Теофиль Готье взял от Севильи все, что она может дать. Мы теперь способны лишь воспроизводить его ощущения. Он прикоснулся своими большими жирными руками к тому, что сразу бросается в глаза — а в Севилье и нет ничего другого; теперь там все захватано и затаскано. Мурильо — вот ее художник!
Ательни вскочил с кресла, подошел к испанскому шкафчику и отпер затейливый замок; передняя стенка откинулась на больших позолоченных петлях, открыв ряды небольших ящиков. Он вынул пачку фотографий.
— Вы знаете Эль Греко? — спросил он.
— Помню, им страшно увлекался один мой знакомый в Париже.
— Эль Греко был художником Толедо. Бетти не нашла фотографии, которую я хотел вам показать. Это любимый город Эль Греко, написанный им самим,— картина, которая правдивее любого снимка. Пойдем сядем к столу.
Филип подвинул кресло, и Ательни положил перед ним фотографию. Филип молча с любопытством ее разглядывал. Потом он протянул руку за другими снимками, и Ательни стал их ему передавать один за другим. Никогда еще он не видел работ этого загадочного мастера. С первого взгляда его неприятно поразила условность рисунка: фигуры были чрезмерно удлинены, головы слишком малы, позы неправдоподобны. Это не было реализмом, и все-таки, несмотря ни на что, даже фотографии передавали волнующее ощущение правды. Ательни с жаром что-то объяснял, но Филип едва слушал. Он был ошеломлен. Его странно встревожили эти снимки. Ему казалось, что в картинах Эль Греко скрыт какой-то особый смысл, но он не знал, какой именно. Тут были портреты мужчин с большими глазами, выражавшими неведомую муку,— высокие монахи в рясах францисканцев или доминиканцев с безумными лицами и непонятными жестами; были тут «Успение богоматери» и «Распятие», где художник каким-то чудом создавал впечатление, что плоть мертвого Христа — не просто человеческая, но божественная плоть; было тут, наконец, «Вознесение» — чудилось, что спаситель несется ввысь, в эмпиреи, и все-таки стоит в воздухе так же твердо, как на земле, а воздетые руки апостолов, их развевающиеся одежды, их восторженные жесты передавали чувство ликования и священной радости. Фоном почти всех картин служило ночное небо, глухая ночь человеческой души, мрачные тучи носились по воле таинственных адских ветров в мертвенно-бледном сиянии луны.
— Я много раз видел в Толедо такое небо,— сказал Ательни.— Когда Эль Греко впервые прибыл в Толедо, стояла, наверно, вот такая ночь, и от этого поразившего его впечатления он всю жизнь уже не мог избавиться.
Филип вспомнил, как захватил Клаттона этот странный мастер, чьи работы он сейчас увидел впервые. Он подумал, что Клаттон был самым интересным человеком, которого он встретил в Париже. Его язвительность, неприязненный холодок, с которым он относился к людям, мешали ему с ними сойтись, но теперь, оглядываясь назад, Филип был уверен, что в нем жила какая-то трагическая мощь, которая тщетно пыталась проявить себя в живописи. Он был личностью необыкновенной, своеобразным мистиком в эпоху, не признававшую никакой мистики, человеком, вечно недовольным жизнью, ибо ему не удавалось выразить смутные порывы своей души. Ум его был не соразмерен его духу. Неудивительно, что он чувствовал такое сильное влечение к Эль Греко, создавшему новую технику, чтобы выразить свое душевное томление. Филип снова проглядел портреты испанских дворян в брыжах, с остроконечными бородками: бледность их лиц резко подчеркивали строгий черный костюм и темный фон. Эль Греко был художником человеческой души; эти дворяне, изнуренные и высохшие не от лишений, а от умерщвления плоти и мучительства духа, которому они себя подвергали, не ведали красот мира сего — их глаза были обращены в глубь собственного сердца и ослеплены сиянием непостижимого. Ни один художник не показал с большей беспощадностью, что наш мир — только временное пристанище. Глаза людей, которых он рисовал, отражали невыразимую тоску души; чувства этих людей до крайности обострены — но не для того, чтобы воспринимать звук, запах или цвет, а для того, чтобы улавливать тончайшие движения собственной души. Какой-нибудь испанский гранд, в груди которого бьется сердце монаха, бродит по свету, видит то незримое, что видят святые в своих кельях, и ничуть этому не удивляется. Губы его не созданы для улыбки.