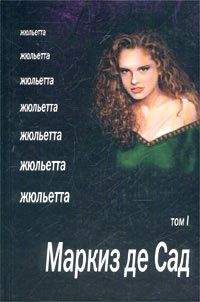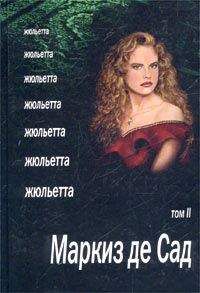Марк Твен - Том 12. Из Автобиографии. Из записных книжек 1865-1905. Избранные письма
1905
ЯнварьШестьдесят лет тому назад «оптимист» и «дурак» не были синонимами. Вот вам величайший переворот, больший, чем произвели наука и техника. Больших изменений за шестьдесят лет не происходило с сотворения мира.
24 сентября
8 часов утра. Чудный сон. Почти наяву. Ливи. Беседовал с ней две или три минуты. Я несколько раз повторил: «Но ведь это только сон, только сон!»
Она, казалось, не поняла моих слов.
Избранные письма
1
ДЖЕЙН КЛЕМЕНС
[сентябрь — октябрь 1861 г.]
Дорогая матушка!
Надеюсь, вы все как-нибудь приедете сюда. Но я приглашу вас лишь тогда, когда сумею принять по всем правилам. Думаю, что это будет в самом скором времени. Я хочу, чтобы Памела пожила на озере Биглер до тех пор, пока не сумеет одним ударом свалить быка, — этак месяца три.
«Напиши все, как есть, ничего не приукрашивая». Ну что ж, «Золотой Холм» продается по 5000 долларов фут наличными. «Дикая Кошка» не стоит и десяти центов. Здешние места баснословно богаты золотом, серебром, медью, свинцом, углем, железом, ртутью, мрамором, гранитом, мелом, алебастром, ворами, убийцами, головорезами, дамами, детьми, адвокатами, христианами, индейцами, китайцами, испанцами, картежниками, шулерами, койотами (здесь их называют ки-йо-ти), поэтами, проповедниками и огромными зайцами породы «Ослиные уши». На днях я слышал, как один джентльмен сказал: «Это самое проклятое место на свете»; и я вполне согласен с этой исчерпывающей характеристикой. Тут не бывает дождей, никогда не выпадает роса. Тут нет цветов и ни одна зеленая былинка не радует глаз. Птицы, которые пролетают над этим краем, прихватывают пропитание с собой. Одни только вороны да вороны живут тут с нами. Наш город стоит посреди пустыни - на одном песке, без всяких примесей, и на этой дьявольской почве ухитряется расти лишь отребье зеленого мира — полынь. Если взять за образец карликовый кедр, смастерить дюжину таких деревьев из самой жесткой телеграфной проволоки, посадить их на расстоянии фута друг от друга и, усыпав все вокруг слоем песка в двенадцать дюймов, попытаться пройти между ними, тогда поймешь, что значит пробираться в пустыне сквозь полынные заросли.
Если сломать стебель полыни, он начинает пахнуть не совсем как магнолия и не вовсе как хорек, но чем-то средним между ними. С виду полынь очень напоминает солянку, — никогда в жизни не видел растения уродливее. Цвета она серого. На равнинах полынь и солянка вырастают вдвое выше обыкновенной герани и, по-моему, прекрасно заменяют это бесполезное растение. Солянка — это поистине великолепная копия виргинского дуба в миниатюре, если только не считать цвета. Что до всех прочих плодов и цветов, так их тут попросту нет, за исключением «пулу», или «тьюлера», или как там ее называют, — какой-то разновидности самой заурядной ивы, которая растет по берегам Карсона; а этот самый Карсон — река в двадцать ярдов шириной, глубиной по колено и такая возмутительно быстрая и извилистая, словно она по ошибке забрела в эти края и, испугавшись, что истомленный жаждой путник осушит ее до дна, заметалась и в спешке сбилась с дороги.
Я говорил, что мы живем посреди ровной песчаной пустыни, — так и есть. А со всех сторон нас окружают такие огромные горы, что поглядишь на них немного, да и задумаешься: какие же они величественные, и начинаешь чувствовать, как душа ширится, вбирая их огромность, и в конце концов, становишься все больше и больше — настоящим гигантом, — и уже с презрением поглядываешь на крохотный поселок Карсон, и вдруг в тебе вспыхивает желание протянуть руку, сунуть его в карман и уйти отсюда.
Что до церквей, здесь поставили, кажется, католическую, но, как та, о которой говорил нью-йоркский пожарный, «она у них бездействует». Да, стало быть, со всех сторон тут сплошной песок, однако большая часть города построена на месте прелестной лужайки; и прозрачные воды, которые прежде одни нарушали ленивый покой этого уединенного уголка, ныне изливаются на пыльные улицы и радуют сердца людей, напоминая им, что здесь ость хоть что-то похожее на их покинутую родину. Чуть выше—«Королевский каньон» (пожалуйста, произносите «кань-йон», на местный манер), там расположены «ранчо», то есть фермы, и, как говорят здешние жители, там растет сено, трава, свекла, лук, репа и прочий «овощ», пригодный для коров, — да, и даже картофель, а также капуста, горох и бобы.
Дома по большей части каркасные, неоштукатуренные, но внутри оклеены сшитыми вместе мешками, и чем крупнее фабричная марка на мешке, тем красивее в комнатах. Изредка попадается каменный дом. Из-за сухости в здешних местах кровельная дрань ужасно коробится, — похоже, что нарезали в длину колено железной печной трубы.
2
ДЖЕЙН КЛЕМЕНС И ПАМЕЛЕ МОФФЕТ
Сан-Франциско, 20 января 1866 з.
Дорогие матушка и сестра,
просто не знаю, о чем и писать, — так однообразна моя жизнь. Уж лучше бы я снова стал лоцманом и водил суда по Миссисипи. Поистине, все на свете суета сует, кроме лоцманского дела. Подумать только, человек написал немало вещей, которые он, но стыдясь, может считать вполне сносными, а эти нью-йоркские господа выбирают самый что ни на есть захудалый рассказ — «Джим Смайли и его скачущая лягушка», который написан для того только, чтобы доставить удовольствие Артимесу Уорду, хвалят его, но он приходит в Нью-Йорк слишком поздно и уже не может появиться в его книге.
Ну да ладно. По правде говоря, книга его никуда не годится, и не к нашей чести было бы появиться в ней.
Вот кусочек из нью-йоркской корреспонденции в сан-францисской «Альте».
«Весь Нью-Йорк покатывается со смеху, читая рассказ Марка Твена «Джим Смайли и его скачущая лягушка», напечатанный 18 ноября в «Сэтердей пресс». Можно смело сказать, что отныне имя Твен — это марка! Меня сто раз спрашивали о рассказе и об авторе, все газеты его перепечатывают. Он признан лучшим рассказом дня. Неужели «Калифорниен» не в состоянии удержать Марка у себя? Не позволяйте ему сиять на чужих небесах, пока калифорнийская печать не выжала из него все что можно».
Увидав, что рассказ опоздал в книгу, нью-йоркские издатели Карлтон и К° отдали его в «Сэтердей пресс».
Хотя меня вознесли над всей пишущей братией наших краев, место это, по-моему, принадлежит Брет Гарту, хоть он и не соглашается со мной, как и все прочие. Он предлагает собрать побольше старых рассказов— моих и его — и издать книгу. Я бы ни за что не согласился, но он берет на себя все хлопоты. Но прежде я хочу узнать, получим ли мы хоть что-нибудь за это. Во всяком случае, он написал нью-йоркскому издателю, и если нам предложат такие условия, что не жалко будет потратить на это месяц, мы возьмемся за дело и подготовим книгу к печати.
Любящий вас
Сэм.
3
ОЛИВИИ КЛЕМЕНС
Питсбург, 30 октября 1860 г., 11 часов вечера
Ливи, милая!
Я только что вернулся и лег.
Время мы провели приятно. Они зашли за мной в половине восьмого, мы взяли отдельный кабинет в ресторане, заказали устриц и поужинали очень спокойно, мило и по-хорошему, без вина, тостов, спичей,— только болтали. (Хотя я по-настоящему ужаснулся, когда тридцать газетных работников, доев последнее блюдо, положили салфетки, придвинули стулья ко мне и вдруг наступила тишина, — ведь эта тишина, казалось, означала, что разговор должен вести я. На самом деле это было не так, но все же я немножко испугался.)
В этот вечер суховатый и рассудительный гений по фамилии Смит поведал о том, как он был лектором. Он сказал: «Год назад у меня хватило глупости отправиться в Европу. Вернувшись, я по глупости решил, что начинен сведениями о Европе, весьма интересными для публики. Я не сомневался, что от меня потребуют лекцию, и поспешил подготовить ее заблаговременно. Я написал мою лекцию на третьем этаже типографии в перерывах между правкой корректуры, и она показалась мне весьма недурной. Я сказал себе, что у меня получается не хуже, чем у Марка Твена, и что если бы я мог выступить перед его аудиторией, я показал бы им, как это делается. Затем я стал ждать потопа — ливня приглашений от лекториев. Это был отличный случай для ожидания — редкостный случай, просто неисчерпаемый по своим возможностям. Я жду до сих пор. Приглашений я так и не получил. Мне это было совершенно непонятно. Но я знал, что публика томится по моей лекции, и, не дожидаясь больше приглашений, решил снять зал «Академии» и прочесть ее на собственный страх и риск. В назначенный час я был на месте, и, кроме меня, еще одиннадцать человек. В половине девятого, заметив, что наплыв публики уже, несомненно, прекратился и что слушатели собрались в полном составе, я поднялся с моим манускриптом на кафедру и в течение полутора часов снабжал этих одиннадцать человек полезными сведениями. Этот опыт обошелся мне в семьдесят пять долларов. Дня через два один приятель спросил меня, стоит ли браться за лекции. Я ответил, что мне, во всяком случае, это стоило довольно дорого.