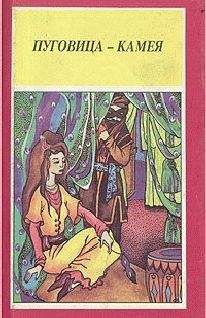Бальтасар Грасиан - Критикон
– Pian piano [656], – говорили итальянцы.
– Не спешите жить, – вторили испанцы.
– Сами посудите, – толковал bel poltrone [657], – ведь в конце жизненного пути все мы приходим к одному пристанищу: кто поумней – приходит позже, кто поглупей – раньше; одни приходят в скорбях, другие в радостях; мудрые умирают, дураки, изнемогши, сваливаются; одни сохраняются до конца, другие разбиваются в лепешку. И право же, коль можно туда прийти несколькими годами позже, весьма глупо очутиться на двадцать лет, даже на один час, раньше.
– Лучше чуть меньше познать, да чуть больше пожить, – говорил один гуляющий.
– И не отказывайтесь от удовольствий, – советовал другой, – не вздумайте лишать себя радостных дней.
– Piacere [658], piacere и еще piacere, – говорил итальянец.
– Веселье, веселье, – твердил испанец.
На каждом шагу попадались веселые заведения, где каждый думал лишь о том, как бы дернуть по маленькой, а то и по большой, и, ежели кто мог насладиться двумя веснами, то не довольствовался одной. Здесь увидели они французские балеты, в которых монсьюры порхали мотыльками и свистели жаворонками; увидели испанские бои быков и сражения на тростниковых копьях; фламандские пирушки, итальянские комедии, португальские концерты, английские петушиные бои и северные попойки.
– Какая чудная земля! – восторгался Андренио. – Очень она мне нравится! Тут действительно живут, а не морят себя.
– Но заметьте, – сказал Чванливый, – сколько ни шумят, а в мире их вовсе не слышно.
– Как! Столько здесь певцов, и чтобы никого не воспевали!
– Народ тут скромный, – отвечал Лентяй, – они не любят подымать в мире шум.
– Да, не вижу я людей знаменитых – вон сколько проезжает карет с князьями да вельможами, а ни одного прославленного.
– Зато притворяются славными – и с успехом.
Подошли странники к толпе людей – не личностей, – окружавших некое чудовище тучности: глаз не видно, зато торчит подвязанное холстом к шее огромное брюхо.
– Вот несносная туша, – сказал Андренио. – Кто это?
– Уверяю тебя, куда несноснее гнилой хиляк, изъеденный или едкий узкий, выжатый, иссушенный. Да, да, толстяки, как правило, люди очень легкие, я хочу сказать, легко переносимые.
Тот как раз преподавал правила accomodabuntur [659], некий оракул собственного commoditе [660].
– Что тут происходит? – спросил Критило.
– А это, – отвечали ему, – школа, где учат жить. Подходите поближе, располагайтесь поудобней и слушайте, как продлить свои годы и растянуть жизнь.
Один за другим подходили желающие услышать афоризмы о том, как сохранить себя, и толстяк охотно их изредал и тут же осуществлял.
– Е io voglio vedere quanto tempo potrа campare un bel poltrone [661], – сказал он и развалился в удобных креслах.
– Это школа Эпикура? – спросил Андренио.
– Нет, вряд ли, – возразил Критило, – тот философ не говорил по-итальянски.
– Эка важность, зато жил и поступал по-итальянски. Как бы там ни было, а этот мог бы быть его учителем.
Подошел человек, упражнявшийся в медлительности, и спросил:
– Messere [662],что вы мне посоветуете, чтобы я хорошо прожил свои дни, а еще лучше – годы?
Толстяк, разинув пасть в две пяди – поистине как у великана Голиафа! – издал громоподобный хохот, затем ответил:
– Buono, buono [663], садитесь и помните – где можно сидеть, не надо стоять. Сейчас я преподам вам правило, из всех наиважнейшее, квинтэссенцию науки жить, но вы должны мне заплатить каталонскими тридцатками [664].
– Это невозможно, – отвечал тот.
– Почему?
– Потому что монсьюры нам ни единой не оставили.
– Ну ладно, соглашусь и на монеты герцога де Альбуркерке [665], дадите штучки две-три и довольно. Сейчас услышите regola. Atenzione [666]! Ни от чего не огорчаться.
– Ни от чего, messere?
– Di niente [667].
– Даже если у меня умрет дочь или сестра?
– Di niente.
– Или жена?
– Тем более.
– Тетка, которой я наследник?
– О, что за вопрос! Да хоть бы у вас вся родня перемерла, все мачехи, невестки да тещи, изображайте полную бесчувственность и говорите, что это и есть величие духа.
– Messere, – спросил другой, – а что вы посоветуете, чтобы я всегда приятно обедал и еще приятней ужинал?
– Расходуйте на добрую олью то, что сэкономите на дурных вестях.
– Но как сделать, чтобы их не слышать?
– Не слушать. Поступайте по примеру одного умного человека: ежели слуга по оплошности проболтался о том, что могло его хоть чуточку расстроить или опечалить, хозяин такого слугу тотчас прогонял.
– Padrono mio саго [668], – обратился другой практикант в вольготной жизни, – все это пустяки сравнительно с тем, чего желал бы я. Скажите на милость, что мне делать – – пусть это даже стоит мне получаса бессонницы, лишит сна в сьесту! – чтобы прожить лет… лет…
– Сколько? Сто?
– Больше.
– Сто двадцать?
– И этого мало.
– Так сколько же вы хотите прожить?
– Столько, сколько некогда люди живали, чему есть примеры в древности.
– Что? Девятьсот лет?
– О да, да.
– Губа не дура.
– – Ну а как дотянуть хотя бы до восьмисот?
– Дотянуть – говорите? Но ежели дотянете, тогда не все ли будет вам равно, тысяча было лет или сто?
– Ну, хоть до пятисот.
– Это невозможно
– Почему невозможно?
– – Потому что нет такого обычая.
– Но ведь все прочие обычаи возвращаются, так почему бы не возвратиться и этому через тысячу лет, через четыре тысячи лет?
– Неужто не видите, что добрые обычаи никогда не возвращаются и вновь к власти никогда не приходят добрые люди?
– А все же, messere, скажите, что делали первые люди, чтобы жить так долго?
– Что? Были добрыми Более того, добродушными. Ничто их не печалило, ибо в те времена отсутствовала ложь, даже на супружеском ложе, не знали отговорок, ни «завтраков», чтобы не платить долги, не исполнять слово. Не было тогда смертельно любопытных, изнуряющих болтунов, терзающих упрямцев, несносных глупцов, от которых с ума сойдешь. Не было домашних мучителей – жен со «стрижено-брито» и лентяев слуг. Не лгали ремесленники, даже портные; не было ни адвокатов, ни альгвасилов; и что самое главное – не было лекарей. Тысячи вещей придумали – Иувал [669] изобрел музыку, Тувалкаин [670] железо, – а вот не находилось человека, что пожелал бы стать аптекарем. А раз ничего в этом роде не было, сами посудите, почему бы не жить по восемьсот и по девятьсот лет – людям, которые были во всем личностями! Избавьтесь от всех этих бед, и тотчас вам дам совет, как прожить хоть тысячу, хоть две тысячи лет, – ведь каждой из них станет, чтобы сто лет жизни отнять, чтобы в несколько дней истерзать, извести и сгубить человека. Скажу прямо – чудом почитаю, что люди ныне живут и столько; разве что некоторые из них – уж очень добрые люди, ради кого и существует мир. И еще скажу вам: всякая материя со дня на день ухудшается, блага иссякают, беды умножаются, и я боюсь, что жизнь еще пуще сократится, – не будут успевать мужчины дорасти до того, чтобы опоясаться шпагой или хотя бы надеть штаны.
– Увы, messere, – возразил проситель, – от всего, что вы назвали, избавиться невозможно – в наше-то время да чтобы не было тяжб, кривды, фальши, тирании, воровства, безбожия здесь и ереси там! А кроме того, всегда будут смертоубийственные войны, изнурительный голод, губительная чума и испепеляющая молния.
И он в сокрушении уже повернулся, чтобы уйти, как bel poltrone, окликнув его, сказал:
– Ну, полноте, ваша милость, я не хотел бы, чтобы после беседы с моей жизнерадостной особой вы ушли в печали. Так и быть, дам вам рецептик как прожить подольше – ныне он весьма моден в Италии и употребителен во всем мире. Вот он: Сеnа росо, usa il fuoco; in testa il capello, e pochi pensieri nel cervello. O, la bella cosa! [671]
– Стало быть, ваша милость советует – поменьше забот?
– Pochissimi [672].
– Тогда мне нельзя быть негоциантом или служить в канцелярии?
– Ни в коем случае.
– Или быть министром?
– Тем паче.
– Или давать деньги в кредит, вести счета, быть поставщиком, домоправителем?
– Нет, нет, ничего такого, никакой работы для головы, одним словом, non curarsi di niente [673].
Так подходили к нему одни и другие за советом de tuenda valetudine [674], и всем он советовал весьма метко: одному – пирушки; тому buona vita [675], и всем – andiamo allegramente [676]. И некоему хмурому вельможе настоятельно рекомендовал шестьдесят раз в месяц есть олью [677].
– На мой взгляд, – сказал Критило, – вся эта наука как жить и наслаждаться к тому сводится, чтобы ни о чем не думать, ничего не делать и ничего не стоить. Я же стремлюсь быть чем-то и хотел бы стоить многого, посему лентяйство это мне никак не подходит.