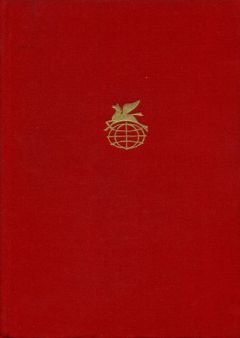Максим Горький - Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы
— Ох, да вы — юморист! — говорил он сквозь смех. — Вот не предполагал. Черт знает как смешно…
И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:
— Это — хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.
Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.
После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.
Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:
— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.
По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:
«Куда идешь? Зачем идешь? Почему — думаешь?»
Некоторые же философы просто и строго командовали: «Стой!»
Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.
— Ну, это — юмористика, — сказал он. — А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти.
Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров[164] — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.
— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?
— В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия…
— Значит — все-таки надежда на примирение жива? Это — зря, — сказал он. — Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.
На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет надобности напоминать, что я воспроизвел ее не в точных словах, не буквально. В точности смысла — не сомневаюсь.
И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина еще более твердым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжелые минуты.
Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюбленный в Ленина, но немножко самолюбивый, принужден был выслушивать весьма острые и тяжелые слова:
— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм — революционнее марксизма?
Богданов пробовал объяснить, но он говорил действительно неясно и многословно.
— Бросьте, — советовал Владимир Ильич. — Кто-то, кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом.
Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех, — не нарушали целостной слитности его характера.
Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.
Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и М. Ф. Андреевой, — невесело говорил, с глубоким сожалением:
— Умные, талантливые люди, не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а — не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.
В другой раз он сказал:
— Луначарский вернется в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» — черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нем какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие — от эстетизма у него.
Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков о их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот попик — сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто, крестьяне отдают своих детей в семинариумы и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?
— Вы — понимаете? Если это не случайное явление — значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!
Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».
Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и не мало других крупных русских людей,[165] каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».
Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:
— Так смеяться может только честный человек.
Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:
— Кози: дринь-дринь. Капиш?
Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:
— Ага! Дринь-дринь!
Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:
«Синьор Дринь-дринь».
Он уехал, а они всё спрашивали:
— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?
Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.[166]
Несколько эмигрантов каприйской колонии — литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присужденный к смертной казни за организацию восстания в Сочи, Павел Вигдорчик[167] и еще, кажется, двое — хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он — был больной человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но не способных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии, — Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чем не расспрашивал, он уже все знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словцом и, кажется, именно ради острого словца жестоко подчеркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри,[168] в нем нет железа ни золотника» — тут каламбур построен на слове ферро — железо. И всё — в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется не так, как бог, но несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но не симпатию. Слишком много было в нем «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остается фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.
Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.