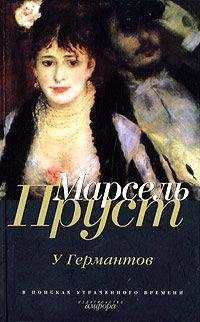Марсель Пруст - Содом и Гоморра
После обеда Альбертина приезжала ко мне на авто; было еще светло; жара спадала, но после знойного дня мы оба продолжали мечтать о какой-то неизведанной прохладе; вдруг перед нашими воспаленными глазами вырисовывался лунный серп (как в тот вечер, когда я был у принцессы Германтской, куда Альбертина позвонила мне по телефону) — сначала в виде тонкой, прозрачной кожуры, потом в виде четвертинки спелого плода, разрезанного в небе незримым ножом. Иногда я сам заезжал за своей подружкой, но заезжал позднее, и тогда она должна была ждать меня под крышей рынка в Менвиле. В первую секунду я не видел ее; я уже начинал беспокоиться: она не придет, она не так меня поняла. Но тут она в белой блузке в синий горошек легко, точно молодой зверек, вспрыгивала в автомобиль и садилась рядом со мной. И, как щенок, долго-долго потом ласкалась ко мне. Когда наступала ночь и, как выражался директор отеля, «небо было утыкано звездами», мы с бутылкой шампанского отправлялись гулять в лес или, не обращая внимания на гуляющих, еще расхаживавших по слабо освещенной набережной и не способных что-либо разглядеть в двух шагах на темном песке, ложились у подножья дюн; у самого моря, рассеченного надвое дрожащим лучом, я прижимал к себе под одеялом тело Альбертины, в гибкости которого сосредоточивалась женская грация, которой она была обязана морю и спорту, — грация девушек, впервые явившихся моему взору, когда за ними, приближавшимися ко мне, виднелась морская даль; и мы жадно, с неуменьшавшимся наслаждением, вслушивались в то, как море затаивает дыхание, задерживая его надолго, так что можно было подумать, будто прилив кончился, и в то, как оно вновь рассыпало у наших ног свой долгожданный, запоздалый шорох. В конце концов я отвозил Альбертину в Парвиль. Подъехав к ее дому, мы из боязни, как бы нас не увидели, переставали целоваться; спать ей не хотелось, и она ехала со мной в Бальбек, а уже оттуда я в последний раз отвозил ее в Парвиль; когда автомобиль только еще появился, шоферы ложились спать бог знает как поздно. И я возвращался в Бальбек по предутреннему холодку, на этот раз — один, но весь еще полный ощущения близости моей подружки, с таким неиссякаемым источником воспоминаний о поцелуях, что мне потом долго еще было откуда черпать. У себя на столе я находил телеграмму или открытку. Это была опять Альбертина! Когда я один уезжал в авто, она писала их в Кетхольме, чтобы я знал, что она обо мне помнит. Я ложился в постель и перечитывал их. Я смотрел на полосу дневного света над занавесками и говорил себе, что, значит, мы действительно любим друг друга, если целовались всю ночь напролет. Утром, встретившись с Альбертиной на набережной, я от страха, что она откажет мне в моей просьбе прокатиться вдвоем, так как сегодня она занята, долго не решался обратиться к ней с этой просьбой. Особенно волновало меня выражение ее лица — отчужденное, озабоченное; мимо нас проходили ее знакомые; скорее всего, она уже составила себе план на сегодня и поездка со мной в этот план не входила. Я смотрел на Альбертину, смотрел на ее красивое тело, на ее румяное лицо: передо мной стояла тайна ее намерений, ее неведомое мне решение, от которого зависело, счастливый у меня нынче будет день или нет. Это было совершенно особенное душевное состояние: все мое будущее представало передо мной в аллегорическом и роковом обличье девушки. И когда наконец я набирался храбрости, когда, напустив на себя как можно больше равнодушия, я спрашивал ее: «Мы с вами поедем кататься сейчас и вечером?» — а она отвечала: «С большим удовольствием», в тот же миг, благодаря волшебному превращению на этом румяном лице долгого моего беспокойства в упоительное спокойствие, этот облик, которому я ежедневно бывал обязан хорошим самочувствием, успокоением после грозы, становился мне еще дороже. Я повторял про себя: «Как она мила! Какое это прелестное существо!» — повторял с восторгом не столь бурным, как при опьянении, чуть-чуть более глубоким, чем тот, каким мы бываем обязаны дружбе, и гораздо более одухотворенным, чем тот, в какой приводят светские развлечения. Мы не брали автомобиля только по тем дням, когда нас звали к себе ужинать Вердюрены или когда Альбертина бывала занята и не могла ехать со мной на прогулку: тогда я заранее уведомлял тех, кто хотел со мной повидаться, что в такой-то день я — в Бальбеке. Я приглашал к себе и Сен-Лу, но только в эти дни. Когда он как-то приехал без предупреждения, я предпочел отменить свидание с Альбертиной, только бы они не встретились, потому что их встреча нарушила бы состояние блаженного покоя, в котором я с некоторых пор находился, и во мне вспыхнула бы ревность. Я успокоился только после отъезда Сен-Лу. Вот почему он, хотя и не без грустного чувства, строго придерживался правила: без приглашения ко мне в Бальбек не приезжать. В былое время я с завистью думал о тех часах, которые с ним проводила герцогиня Германтская; мне были так дороги встречи с Робером! Люди беспрестанно меняются по отношению к нам. Мир неощутимо, но вечно движется, а нам представляется, что в момент своего появления они неподвижны, ибо этот момент слишком краток и мы не успеваем почувствовать, что общее движение увлекает их за собой. Однако стоит нам оживить в памяти два образа человека, запечатлевшихся в разные моменты, но все-таки сохранивших черты сходства, потому что в их внутреннем мире еще не успела произойти перемена, во всяком случае — ощутительная, — и по различию между двумя образами мы сможем судить о том, как этот человек изменился по отношению к нам. Сен-Лу страшно меня расстроил, заговорив о Вердюренах: я боялся, что он попросит познакомить его с ними, а этого было бы достаточно, чтобы испортить мне удовольствие моих поездок к ним вдвоем с Альбертиной, так как это всколыхнуло бы мою ревность. К счастью, Робер признался мне, что он меньше всего стремится к знакомству с Вердюренами. «Нет, — сказал он, — по-моему, эти клерикалы несносны». Сперва я не понял, почему Сен-Лу называет Вердюренов клерикалами, — я не принял во внимание уступок моде в языке, которыми нередко поражают люди интеллигентные, — его мысль стала мне ясна из дальнейшего. «Это особая каста, — сказал он, — свой монастырь со своим уставом. Ведь ты же не станешь отрицать, что это малюсенькая секта; они ходят на задних лапках перед теми, кто принадлежит к их кругу, и обдают холодом презрения тех, кто к нему не принадлежит. По отношению к ним гамлетовский вопрос надо ставить иначе: не «быть или не быть», а быть с ними или не быть с ними. Ты — с ними, мой дядя Шарлю — с ними. Это выше моих сил, я эту публику всегда недолюбливал, ничего не могу с собой поделать».
Само собой разумеется, правило, которое я предписал Сен-Лу, — без зова ко мне не являться — я твердо установил для всех, с кем я постепенно сдружился в Ла-Распельер, в Фетерне, в Монсюрване и в других местах; если из окна отеля я видел дым над трехчасовым поездом, клубы которого надолго застревали в расселинах парвильских прибрежных скал и зацеплялись за их лесистые склоны, то у меня не оставалось сомнений, что ко мне на чашку чая едет гость, но что пока его, как бога, скрывает от меня облако. Должен сознаться, что в число гостей, приезжавших ко мне с моего разрешения, не входил Саньет, и впоследствии я очень часто осуждал себя за это. Но Саньет сам понимал, что нагоняет скуку (конечно, в еще большей степени самым фактом своего приезда, чем своими рассказами), и из-за этого, хотя он и был образованнее, умнее и добрее многих других, вы уже заранее настраивались на то, что не только не получите никакого удовольствия от его приезда, но что проскучаете с ним целый день и вам под конец станет тошно. Вероятно, если бы Саньет откровенно признался, что боится нагнать скуку, знакомые перестали бы бояться его приездов. Скука — это одно из наименьших зол, скука, которую наводил он, существовала, быть может, лишь в воображении других, или, зная его милую скромность, кто-то сумел ему это внушить. Но он тщательно скрывал, что его никуда не зовут, и никому не навязывался. Конечно, нежелание уподобляться человеку, которому доставляет большое удовольствие направо и налево раскланиваться в общественных местах и, после длительного промежутка времени снова встретившись с вами и увидев вас в ложе, в блестящем окружении, ему не известном, второпях, но во всеуслышание поздороваться с вами и тут же извиниться за то, как он рад вас видеть, за то, что это его так взволновало, за то, что ему так приятно снова встретиться с вами в театре и удостовериться, что вы хорошо выглядите и т. д., — это была хорошая черта Саньета. Но, в противоположность людям такого сорта, Саньет был уж чересчур робок. У г-жи Вердюрен или в дачном поезде он вполне мог бы сказать, что был бы очень рад заглянуть ко мне в Бальбек, да боится мне помешать. Это его намерение нисколько бы меня не напугало. Но он не высказывал намерения — с искаженным лицом, уставив на меня непроницаемые, словно эмалевые глаза, в которых, однако, угадывались обычно мечта о встрече со мной — если только ему не представлялось ничего более интересного — и стремление никак эту мечту не проявить, он, напустив на себя равнодушие, говорил мне: «Я, наверно, буду поблизости от Бальбека, но ведь вы же не знаете, как у вас сложатся ближайшие дни. Впрочем, это не важно, я совершенно случайно об этом наговорил». Своим видом он никого не обманывал — внешние признаки, выражающие нечто диаметрально противоположное тому, что творится у нас в душе, разгадываются легко, так что даешься диву, зачем до сих пор люди, чтобы скрыть, что их никуда не зовут, прибегают к таким изворотам, как, например: «Я — нарасхват, прямо хоть на части разрывайся». Это напускное равнодушие — вероятно, потому, что в нем соединяются разные чувства, — вы принимаете отнюдь не за страх наскучить вам или за откровенное признание в том, что с вами хотят увидеться, а за чувство некоторой отчужденности, за желание держаться на расстоянии: такого рода обычной учтивости соответствует в сердечных делах завуалированное предложение увидеться на другой день, с которым обращается к даме не вызывающий у нее никаких чувств вздыхатель, тут же добавляя, что он нисколько на этом не настаивает, или даже не предложение, а наигранная его холодность. Что-то было в Саньете такое, отчего у вас возникала потребность ответить ему с самым ласковым видом: «Нет, я вам сейчас объясню: к сожалению, на этой неделе…» Вместо Саньета я принимал у себя людей гораздо менее достойных, чем он, но зато таких, у кого выражение лица было не грустное, как у Саньета, у кого губы не были искривлены горечью, накопившейся после всех отказов, которые он получал — а ведь ему так хотелось побывать то у того, то у другого! — и которые он и от того, и от другого скрывал. Как назло, Саньет постоянно встречался в вагоне пригородного поезда с кем-нибудь из тех, кто ехал ко мне, или визитер напоминал мне при нем Вердюренов: «Не забудьте, что я к вам приеду в четверг», а я как раз говорил Саньету, что четверг у меня занят. В конце концов Саньету начало казаться, что вся жизнь состоит из развлечений, устраиваемых без его ведома и даже с целью сделать ему неприятность. К этому следует добавить, что цельных натур не бывает, и Саньет не составлял в данном случае исключения: этот чересчур скромный человек был болезненно нескромен. Когда он в первый и в последний раз, случайно, без моего приглашения, ко мне зашел, у меня на столе валялось чье-то письмо. Очень скоро я заметил, что он слушает меня рассеянно. Я уже успел забыть, от кого это письмо, а Саньета оно приворожило; казалось, эмалевые его глаза вот-вот выскочат из орбит и устремятся навстречу этому совершенно неважному письму, которое, словно магнитом, притягивало его любопытство. Он напоминал птицу, которая не может не броситься на змею. В конце концов он не выдержал и, словно желая навести у меня в комнате порядок, переложил письмо на другое место. Но этого ему было мало: он взял его и как бы машинально стал поворачивать то одной стороной, то другой. Еще один вид его нескромности выражался в том, что если он к вам прилип, то уж потом никакими силами не мог заставить себя уйти. Как-то мне нездоровилось, и я попросил его уйти через полчаса и уехать со следующим поездом. Он не сомневался в том, что я болен, а все-таки сказал: «Я пробуду у вас час с четвертью и тогда уйду». Потом я упрекал себя: почему я не звал его к себе, когда был свободен? Как знать? Быть может, я переломил бы этим несчастную его судьбу, его стали бы звать к себе другие, ради которых он сейчас же бросил бы меня, и таким образом мои приглашения пошли бы на пользу и Саньету, и мне: Саньету они вернули бы жизнерадостность, а меня избавили бы от него.