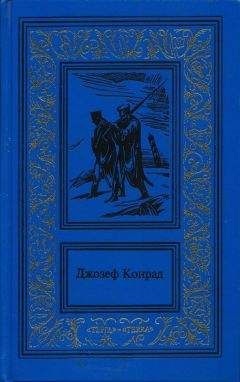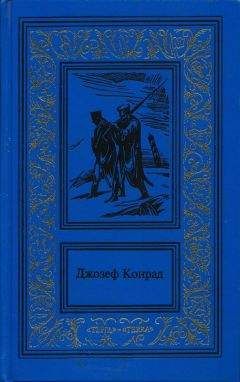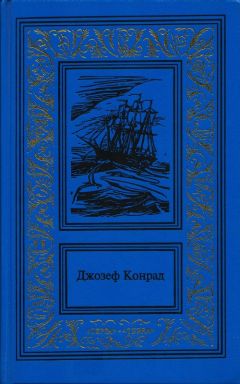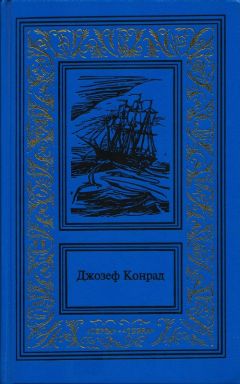Джозеф Конрад - Ностромо
Он был смелым человеком. Правда, его смелость не всегда отличалась благородством, но сейчас это было не важно. Он подвел шхуну к берегу и, стоя на палубе, внимательно оглядел лощину и заросли кустарника, прикрывавшие вход в тайник. Шхуна стояла так близко от острова, что он мог перекликаться с рабочими, которые стояли на краю отвесного утеса под стрелой мощного подъемного крана. Ознакомившись с обстановкой, он понял, что никому из них незачем даже близко подходить к лощине, где спрятано сокровище; тем более в нее спускаться. В гавани ему сказали, что на острове никто не ночует. Баркасы каждый вечер переправлялись на буксире в порт, и рабочие возвращались домой, хором распевая песни. Иными словами, сейчас ему нечего было бояться.
«Ну а потом?» — спросил он себя. Потом, когда на острове станет жить смотритель в домике, который уже строят для него за утесом, в полутора сотнях ярдов от маяка и ярдах в четырехстах от тенистой, темной, заросшей кустами лощины, где хранится тайна его безопасности, его влияния, его великолепия, его власти над будущим, тайна, благодаря которой он не страшится злой судьбы, предательства богатых и предательства бедных. Что будет тогда?
Никогда ему не избавиться от проклятого сокровища. Его отвага, превосходящая отвагу других людей, сослужила ему недобрую службу: сплела его судьбу с этой серебряной жилой. И это страшное, мучительное ощущение, что он раб, было таким безысходным, что он нередко сравнивал себя с гринго, о которых рассказывала легенда, не мертвыми и не живыми, навечно связанными со своим незаконно приобретенным богатством. Ощущение это тяжким ярмом давило на своевольного капитана Фиданцу, шкипера и владельца шхуны, чья бравая внешность и баснословный успех в делах были известны всему западному побережью континента.
Неулыбчивый, усатый, отчасти утративший былую упругость походки и стройность благодаря усилиям евреев-портных, изготовлявших в лондонских трущобах вульгарного покроя твидовые костюмы, впоследствии приобретаемые отделом готового платья компании Ансани, он и на этот раз, вернувшись в Сулако, много ходил по делам, и его видели, как всегда, на улицах. И как всегда, он не препятствовал слухам, что сбыл груз с огромной прибылью. Приближался пост, и такой товар, как соленая рыба, раскупали охотно. Его видели в трамваях, курсирующих между городом и портом; раза два он разговаривал с кем-то в кафе, как обычно, ровным, сдержанным тоном. Капитана Фиданцу видели. Поколение, которое ничего не будет знать о легендарной поездке в Каиту, еще не родилось.
Капатас портовых каргадоров, получивший кличку Ностромо от не знавших итальянский язык англичан, теперь уже под настоящим своим именем снова выступил на общественной сцене в роли несколько иной — менее колоритной и более сложной для исполнителя, ибо публика (население Сулако, передовой столицы Западной республики) тоже стала иной: разношерстной и многолюдной.
Капитана Фиданцу, не колоритного, но всегда немного загадочного, увидели и сразу же узнали под высокой крышей из железа и стекла на вокзале железнодорожной станции. Он взял билет на пригородный поезд и отправился в Ринкон, где навестил вдову каргадора, который умер от ран во внутреннем дворе Каса Гулд (на заре Новой Эры так же, как дон Хосе Авельянос). В хижине он изъявил согласие поесть и выпить стакан холодного лимонада, вдова же, стоя, произнесла пылкую и многословную тираду, которую он не слушал. Он дал ей денег. Сироты, уже подросшие и получившие приличное для деревенских жителей образование, называли его дядей и попросили их благословить. Он выполнил и эту просьбу; уходя, задержался на миг на пороге, взглянул на плоский лик горы Сан Томе и нахмурился.
Точно так же он насупил свой бронзовый лоб, что придало оттенок суровости его обычно непроницаемому лицу, на заседании масонской ложи, которую он посещал… впрочем, перед банкетом его чело разгладилось. И точно так же он нахмурился на митинге, где несколько славных товарищей, итальянцев и уроженцев Западной республики, собрались в его честь под председательством нищего, болезненного, горбатенького, малорослого фотографа, чья возвышенная душа побагровела от кровожадной ненависти ко всем капиталистам, угнетателям обоих полушарий. Джорджо Виола, старый революционер, ничего не понял бы из вступительной речи фотографа; а капитан Фиданца, щедрый, как всегда, к неимущим товарищам, не стал произносить речей. Он слушал сумрачно, думал о чем-то своем, а потом ушел, недоступный, молчаливый, каким и должен быть человек, у которого много забот.
Он нахмурился еще сильней, когда на следующее утро увидел вольных каменщиков, плывущих к Большой Изабелле на баркасах, груженных прямоугольными каменными блоками. Камней было достаточно, чтобы добавить к маяку еще один ряд кладки. Такова была установленная норма: один ряд кладки в день.
Капитан Фиданца думал, напряженно думал. Когда на острове появятся чужие люди, ему к сокровищу уже не подойти. Ему и до сих пор было и трудно, и опасно пробираться к тайнику. Он был напуган и в то же время разгневан. Он размышлял, как поступить, с твердой решимостью хозяина и с лукавством раба. Затем отправился в порт.
Находчивости и изобретательности ему было не занимать; поэтому, как всегда, попав в критическое положение, он нашел средство изменить ситуацию в корне. Он умел, оказавшись в опасности, повернуть дело так, чтобы то, что ему угрожает, его защитило; уж такой был у него талант, у несравненного Ностромо, «малого, какие попадаются один на тысячу». Если смотрителем назначат Джорджо, ему не нужно будет скрываться. Он сможет приезжать открыто, при свете дня, повидаться с его дочерьми — с одной из дочерей, — а потом долго беседовать со стариком гарибальдийцем. Ну, а уж ночью… каждую ночь… Теперь он может позволить себе богатеть быстрее. Как страстно ему хотелось загребать, хватать, поглощать, покорять себе это сокровище, деспотически завладевшее его мыслями, поступками, даже сном.
Он отправился в гости к своему другу капитану Митчеллу и провернул дело именно так, как доктор Монигэм рассказал миссис Гулд. Когда старому гарибальдийцу сообщили, какая ему предлагается должность, раздумье легкой тенью пробежало по его лицу, и призрак прежней, давнишней улыбки мелькнул под белыми огромными усищами врага министров и королей. Джорджо очень тревожили дочери. В особенности младшая. Линда, получив в наследство материнский голос, унаследовала заодно и ее положение в доме. Ее звучное «Ну, падре?»[135] казалось отражением кипуче укоризненного «Ну, Джорджо?», так часто произносимого бедной синьорой Терезой. Старик был твердо убежден, что город — неподобающее место для его дочерей. Ослепленный страстью, но бесхитростный Рамирес был предметом его глубочайшей неприязни, ибо воплощал в себе пороки этой страны, населенной слепыми и низкими esclavos.
По возвращении из следующего плавания капитан Фиданца обнаружил, что семейство Виола поселилось в домике, выстроенном для смотрителя маяка. Он хорошо знал характер старого Джорджо и не ошибся в расчетах. Гарибальдиец решительно отвергал самую мысль о том, что на острове может поселиться кто-нибудь, кроме его дочерей. И капитан Митчелл, которому очень хотелось чем-нибудь порадовать своего бедного Ностромо, нашел выход из положения с той проницательностью, которую дарует людям только искренняя любовь; с соблюдением всех необходимых формальностей назначил Линду Виола младшим смотрителем маяка.
— Этот маяк частная собственность, — объяснял он всем, — и принадлежит он моей компании. Мое право выбирать кого мне угодно на должность, и я выбрал старого Виолу. Это единственное, о чем Ностромо — а он бесценный человек, чистое золото! — когда-либо меня просил.
Поставив шхуну на якорь против здания таможни, — плоская крыша, колоннада, ложногреческий стиль, — капитан Фиданца сел в лодку и направился в сторону Большой Изабеллы, открыто, при свете угасающего дня, на глазах у всех и с приятным сознанием, что он вышел победителем из единоборства с судьбой. Он будет часто ездить на остров и узаконит это положение. Сейчас он попросит у старого Джорджо руку его дочери. Он греб и думал о Гизелле. Линда, может быть, любит его, но старик не станет возражать, он будет рад, если с ним останется старшая, голос у которой точь-в-точь как у его покойной жены.
Он плыл не к узкой полоске песка, где когда-то высадился вдвоем с Декудом и еще раз, позже, когда приехал на остров один. Он подплыл к острову с другой стороны и стал подниматься по ровному, пологому склону. Джорджо Виола, которого он увидел издали на скамейке возле двери, чуть приподнял руку, отвечая на громкое приветствие гостя. Ностромо подошел. Девушек не было видно.
— Здесь хорошо, — сказал старик, как всегда рассеянно, немного отчужденно.