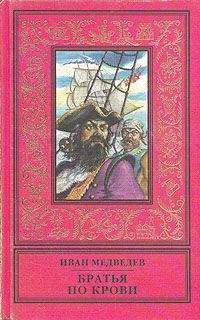Эдмон Гонкур - Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен
— Ничто не имеет для меня значения, ничто! — пылко вскричал лорд Эннендейл.
— А для меня имеет, — возразила Фостен. — Вы не знаете, что такое наша жизнь — жизнь бедных девушек из народа, когда они попадают на сцену и… и вынуждены иногда румяниться толченым кирпичом!.. Нет, вы и представить себе не можете, как велика в это время наша нужда, наша беспомощность, наша зависимость от директора театра и от многих-многих других!.. И ни одного человека, который мог бы вступиться, защитить, предостеречь!.. И ничего вокруг, кроме мерзости и распутства!.. Ах, прошу вас, не заставляйте меня вспоминать!.. И потом, если быть откровенной, то при нашем ремесле, когда вечно горишь как в лихорадке, словно какой-то бес вселяется в нас по временам, и тогда… Да вот, взгляните на этот портрет, — и она показала на жесткое и высокомерное лицо его отца, смотревшего на них со стены. — спросите у него, что он думает о предложении, которое сделал мне сейчас его сын… Стать вашей женой, сказали вы… Нет, я не хочу, чтобы ваши дети, если они у нас будут… Дети!.. — И она разразилась смехом, который причинял боль. — Дети! Да разве я не поражена бесплодием, как все куртизанки!.. Видите ли, друг мой, — продолжала она с мягкой горечью, — нам не суждено быть законными женами, мы можем быть только любовницами, и я буду принадлежать вам всегда… по крайней мере, до тех пор, пока вы этого захотите.
И, бросившись в объятия своего возлюбленного, с какой-то неистовой силой прижимаясь к его груди, удерживая готовые брызнуть слезы, Фостен продолжала, стараясь, чтобы голос звучал естественно:
— Будьте умницей… не надо больше говорить об этом, потолкуем лучше о наших делах. Ведь над нами висит процесс — я нарушила контракт, и у меня мурашки бегают по спине, стоит мне только взглянуть на эту гербовую бумагу… но это еще не все — сейчас меня начнут осаждать разные официальные лица, Днем и ночью они будут убеждать меня отказаться от моего решения… Надо бежать из Парижа… поехать на несколько месяцев куда-нибудь за границу… Вот что — вы ведь идете вечером в английское посольство? Ну, а я навещу сегодня мою сестру: в последнее время я совсем забросила ее из-за вас… Вы же знаете, что я вечно все откладываю на завтра.
И она стала готовиться к визиту, а лорд Эннендейл продолжал сидеть в своем глубоком кресле грустный, такой грустный, что, уже подойдя к двери, она вернулась, чтобы поцеловать его.
— Вы хотите ехать за границу… куда именно?
— Куда угодно.
XL
Сестра Жюльетты, в голубом кашемировом капоте с широкими отворотами и карманчиками из белого кашемира, с пышными воланами из полосатого индийского муслина, серебристой пеной окружавшими кисти ее рук, была занята тем, что бросала маленькие кусочки вермишели своей золотой рыбке; лицо ее было в тени.
Когда актриса вошла в спальню, Щедрая Душа подняла голову от светящейся банки, в которой несчастный стеклянный Дебюро без отдыха кувыркался под ударами хвоста жадной рыбки, и с иронией приветствовала сестру:
— А, это ты… ну и чудеса же я слышала о тебе… говорят, ты опять втюрилась — и это в твои-то годы!.. И даже бросаешь ради своего англичанина сцену!.. Какие все-таки дурочки эти женщины с фантазией!.. О, я не сомневаюсь, что в постели он очень мил, этот твой englishman…[177] И красив, черт возьми!.. не хуже тех хорошеньких учителей иностранных языков, которые смущают покой юных пансионерок. Но все же…
— Знаешь что, Малышка, каждый по-своему устраивает свою жизнь, — сухо ответила Фостен, не дав сестре закончить тираду. — А Карсонак дома?
— Уехал в Брюссель — возобновляет для бельгийцев постановку одной своей старой пьесы.
— Да ты совсем раздета… может, ты собиралась лечь?
— Нет, я жду любовника.
— Это все тот же злосчастный Плескун?
— Плескун!.. Вот уже целая вечность, как с ним покончено… Его послали на юг. Да, да, он в Италии… в Париже слишком сырой климат… он не мог поглощать здесь достаточно ртути! Знаешь, он получил пощечину при полном театре… Но в нынешнем году мужчины не рвутся в бой… быть может, на них действуют морозы.
— Да что с тобой сегодня?
— Ничего… Просто это час моих утех.
И, подойдя к камину, в котором ярко пылал каменный уголь, Щедрая Душа уселась верхом на стул, открыв выше колена ногу в черном шелковом чулке с вишневой плюшевой подвязкой, на которой блестела марказитовая пряжка. Не сходя с места, она взяла с мраморного столика какой-то флакон и с размаху вылила жидкость на пылающие уголья, откуда тотчас же поднялось облако росного ладана, способное одурманить целый полк. С какой-то холодной яростью помешивая кочергой в этом пахучем пламени, она сказала:
— Люблю резкие запахи, и все тут… Нет, это не Плескун, — добавила она. — Я теперь перешла на других любовников… Теперь я схожусь с босяками… с людьми из «низов», вот оно как!.. Видишь ли, — продолжала она, глядя на едкое облако, — с мужчиной из общества всегда мешает какой-то остаток стыдливости, желание изображать из себя порядочную женщину… забота не о своем, а именно о его удовольствии… тогда как с теми мужчинами, с какими теперь имею дело я… этим я приказываю ласкать, как могла бы приказать наколоть дров… Для черной работы в любви никто не может быть лучше, чем мужчины из «низов».
И, встав со стула, она сердито растрепала свою прическу, над которой столько трудилась утром, а потом принялась шагать из угла в угол, словно дикий зверь в клетке. Ее потемневшие голубые глаза, ставшие почти черными, как всегда в минуты дурных мыслей, только что выкрашенная копна волос, блестевшая в свете лампы, — все это придавало ей свирепое величие блудницы из Апокалипсиса[178].
Внезапно она остановилась, и все, что бурлило в ней, вылилось наружу:
— Эх, будь я на твоем месте… О, мужчины, мужчины!
Она не сказала ничего больше, но при мысли о возможности жестоко отомстить всем этим самцам — самцам из общества — на лице ее появилось выражение беспощадной ненависти и злорадного торжества самки.
Снова подойдя к камину, где оставленная ею лопаточка для угля раскалилась докрасна, она опять начала лить жидкость на огонь, яростно размахивая флаконом и брызгая огненной влагой на ковер, на мебель.
— Вот что, ты мешаешь мне… уходи… — решительно бросила она вдруг сестре. — Я не хочу, чтобы ты встретилась с моим оборванцем.
И, целуя на прощанье сестру, Щедрая Душа вдруг разразилась взрывом дикого, злого смеха.
— Знаешь что… — сказала она, — все-таки в дурах останешься ты… а я — я еще выйду замуж, вот увидишь!
XLI
— Надеюсь, вы проводите меня, мой друг? — спросила Фостен у лорда Эннендейла на другой день после своего визита к сестре, когда горничная уже подавала ей шляпу и перчатки.
— Я в вашем распоряжении.
Фостен взяла со стола тонкую зеленую книжечку, и они сели в ландо, которое привезло их в один из отдаленных кварталов Парижа и остановилось перед старинным домом с афишами на стенах и с двумя полицейскими у входа. Множество пожилых супружеских пар и молоденьких простоволосых модисток толпилось на обеих сторонах тротуара, с равнодушным любопытством разглядывая тех, кто входил внутрь.
Это был аукцион, где продавалось имущество одной недавно умершей великой актрисы, трагической актрисы, какою являлась и пришедшая сюда Фостен, актрисы, которая в свое время была еще более известна, более прославлена, более знаменита, чем женщина, явившаяся взглянуть на эту распродажу.
Лорд Эннендейл и Фостен поднялись по лестнице с широкими площадками и оказались в большой комнате с окнами, выходившими во двор, откуда сквозь грязные стекла проникал холодный дневной свет, придававший всему оттенок старой запыленной паутины. Здесь, на длинной вешалке, огибавшей всю комнату и, видимо, только недавно прибитой, уныло, мертво висели платья покойной: наряды женщины и костюмы королевы сцены, бальные накидки из белого стеганого атласа и одеяния Федры, Гермионы, Роксаны. Все театральные реликвии, прикасавшиеся когда-то к этому телу, все костюмы знаменитой актрисы теперь омерзительными гроздьями висели по стенам, словно на стене морга, похожие на фантастические оболочки, на полуночные покровы каких-то привидений, внезапно застывшие при первых лучах солнца.
Из складок этих некогда великолепных, а теперь поблекших обносков выглядывали головы торговок подержанным платьем, перекупщиц, которые без конца перебирали это тряпье, словно желая убедиться в том, что удар меча, нанесенный братом Камиллы, не оставил дыры в тунике его сестры.
И время от времени раздавался визгливый голос: «Проходите, господа и дамы», — возглас аукциониста, который подгонял толпу зевак, равнодушных, пренебрежительных, ошеломленных.
В другой комнате были собраны, сгруппированы, свалены в одну кучу бриллианты, ларец с драгоценностями, выполненными по рисункам этрусских драгоценностей Ватикана и Museo Borbonico,[179] старинный цыганский убор из неизвестных камней, быть может, сделанный руками какого-нибудь Жиля Бродяги из Тунского царства.[180] И в этом ворохе вещей — дорожные несессеры со щеточками и флаконами в золотой оправе рядом с кучей книг в дешевых картонных переплетах и с чашками из современного севрского фарфора! Там было еще столовое серебро и ведерки для шампанского — свидетели незабываемых и еще не забытых ужинов и обедов, а два ювелира как раз взвешивали на руке все эти вещицы, чтобы хоть приблизительно определить их ценность.