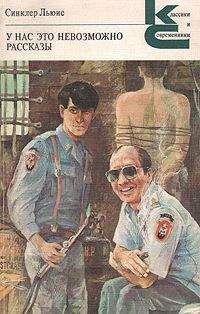Синклер Льюис - Том 3. Эроусмит
— Да… Черт возьми… но… Да, ты права, а все-таки… Ладно, теперь все кончено.
— Милый, я прекрасно понимаю твои чувства. Но разве плохо, что все кончено? Поцелуй меня и скажи: «Спокойной ночи».
«И все-таки», — сказал Мартин сам себе. Он сидел, чувствуя себя голым, и потерянным, и бездомным в шелковом халате (золотые стрекозы на черном фоне), который она купила ему в Париже».
«…И все-таки, будь на месте Джойс Леора… Леора знала бы, что Клиф мошенник, и приняла бы это, как факт. (Это я-то закрываю глаза на факты!) Она не сидела бы весь вечер с видом судьи. Она не сказала бы: «Это не похоже на меня — значит, это дурно». Она сказала б: «Это не похоже на меня — значит, это интересно». Леора…»
С ужасающей четкостью встало перед ним видение: она лежит без гроба под рыхлой землей в саду, в Пенритских горах.
Он очнулся и стал вспоминать.
«Что это Клиф сказал? «Ты ей не муж, ты ее лакей, ты слишком вылощен». Он прав! В этом все дело: мне не позволяют видеться с кем я хочу. Я так умно распорядился собою, что стал рабом Джойс и Рипа Холаберда».
Он каждый день собирался, но так и не свиделся больше с Клифом Клосоном.
Выяснилось, что и у Джойс и у Мартина деда с отцовской стороны звали Джоном, и сына своего они назвали Джоном Эроусмитом. Они этого не знали, но некий Джон Эроусмит, девонширский моряк, погиб в бою с Испанской армадой, прихватив с собою на тот свет пятерых доблестных идальго.
Джойс мучилась неимоверно и вновь завоевала прежнюю любовь Мартина (он любил и жалел эту стройную красивую женщину).
— Смерть интересней игра, чем бридж, тут вам партнер не поможет! — сказала она, уродливо раскоряченная на кресле пыток и стыда. Пока ей не дали наркоз, ее лицо казалось зеленым от муки.
У Джона Эроусмита была прямая спинка и прямые ноги, весил он при рождении добрых десять фунтов[89], и глазки у него смотрели весело, когда он из сморщенного кусочка мяса превратился в маленького человечка. Джойс его боготворила, а Мартин боялся его, так как видел, что этот крошечный аристократ, это дитя, рожденное для самовлюбленного богатства, будет когда-нибудь смотреть на него свысока.
Через три месяца после рождения ребенка Джойс сильнее, чем когда-либо, увлекалась теннисом, и гольфом, и шляпками, и русскими эмигрантами.
К науке Джойс относилась с большим уважением и без всякого понимания. Она нередко просила Мартина рассказать ей о своей работе, но когда он загорался и ногтем принимался чертить на скатерти схемы, она его мягко перебивала:
— Прости, дорогой… Одну минутку… Плиндер, херес весь — или найдется еще?
Когда же она снова поворачивалась к нему, ее глаза глядели ласково, но от энтузиазма Мартина уже ничего не оставалось.
Она приходила к нему в лабораторию, просила показать колбы и пробирки и требовала, чтоб ей все растолковали, но никогда не сидела рядом, молча часами наблюдая.
Нежданно, барахтаясь в лабораторной трясине, Мартин нащупал твердую почву. Очередная ошибка позволила ему заметить действие фага на мутацию бактериальных видов — очень тонкое, очень изящное — и после долгих месяцев кропотни, когда он был благоразумным обывателем, почти хорошим мужем, превосходным партнером в бридже и никудышным работником, Мартин опять изведал счастье напряженного безумия.
Ему хотелось работать до рассвета, из ночи в ночь. В период его безвдохновенных исканий ничто не удерживало его в институте после пяти, и Джойс привыкла, что он рвется домой, к ней. Теперь он проявлял неудобную склонность пренебрегать приглашениями, огрызаться на очаровательных дам, просивших «объяснить им все о науке», забывать даже о жене и ребенке.
— Я должен работать вечерами, — говорил он. — Когда у меня идет большой опыт, я не могу относиться к делу легко и формально, как и ты сама не была легкой, и спокойной, и любезной, когда носила ребенка.
— Знаю, но… Милый, ты становишься слишком нервным, когда так работаешь. Боже мой, «меня беспокоит не то, что ты обижаешь людей, манкируя приглашениями, — хотя, конечно, я предпочла бы, чтобы ты этого не делал: это, я допускаю, неизбежно. Но скажи: когда ты так изматываешься, разве ты в конечном счете выгадываешь время? Я думаю о твоей же пользе. Эврика! Подожди! Увидишь, какой я замечательный ученый! Нет, я пока что объяснять не стану!
Джойс была богата и энергична. Неделю спустя, стройная, нарядная, веселая, с горящими щеками, она сказала ему после обеда:
— У меня для тебя сюрприз!
Она повела его в пустовавшие комнаты над гаражом во дворе. За эту неделю два десятка рабочих из самой исполнительной и солидной фирмы лабораторного оборудования по требованию Джойс создали для Мартина лучшую бактериологическую лабораторию, какую только доводилось ему видеть: белый кафельный пол, стены из глазированного кирпича, термостат и ледник, стеклянная посуда, краски и микроскоп, превосходная водяная баня постоянной температуры и препаратор, прошедший выучку в институтах Листера и Рокфеллера. У него была спальня за лабораторией, и он изъявил готовность служить доктору Эроусмиту день и ночь.
— Ну вот, — пропела Джойс, — теперь, если тебе понадобится работать вечерами, тебе незачем тащиться на Либерти-стрит. Ты можешь дублировать свои культуры или как они там называются. Если тебе за обедом станет скучно — прекрасно! Ты можешь посидеть немного, а потом улизнуть сюда и работать, сколько тебе захочется. Здесь… Милый, здесь все хорошо? Я правильно устроила? Я столько положила труда, достала самых лучших людей…
Припав губами к ее губам, он думал печально: «Сделать для меня так много! И с такой кротостью!.. И теперь, черт возьми, я уже никогда не смогу уйти к себе!»
Она так весело просила его найти какой-нибудь недочет, и он, чтоб доставить ей новое удовольствие — радость смирения, он сказал, что центрифуга, пожалуй, не совсем подходит.
— Подожди, дорогой! — возликовала она.
На третий день, вернувшись с ним из оперы, она повела его в гараж под лабораторией. В углу, на цементном полу, стояла, в разобранном виде, подержанная, но вполне подходящая центрифуга, лучше и желать нельзя, шедевр прославленной фирмы Беркли-Сондерса — та самая «Глэдис», чью отставку из института за ее непотребное поведение Мартин и Терри отпраздновали в свое время знатным кутежом.
На этот раз Мартину труднее было почувствовать благодарность, но он старался как мог.
В обоих секторах круга Джойс — экономико-литературном и роллс-ройсовском — распространился слух, что в оскудевшем мире появилось новое развлечение — ходить в лабораторию Мартина и наблюдать его за работой. Полагалось чинно и почтительно молчать, если только Джойс не шепнет: «Ну, разве он не прелесть! Как он мило учит малютку-бактерию говорить «с добрым утром!»; или если Латам Айрленд не приведет их в восторг замечанием, что ученые лишены чувства юмора; или если Сэмми де Лембр не грянет вдруг, чудесно имитируя джаз:
Мистер Микро-микро-бус, не радуйтесь, дружок!
Мы вас вытащим за ус, — дайте только срок!
Важный доктор Эроусмит в окошечко глядит,
А Микробус в камере под вальс-бостон грустит.
Двоюродный брат Джойс, приехавший из Джорджии, резвился:
— Март с таким умным видом склонился над своими стаканчиками! Но я всегда могу довести его до белого каления, — стоит мне только посоветовать ему ходить почаще в церковь.
А Мартин в это время старался сосредоточиться.
Налеты на его лабораторию происходили не чаще, чем раз в неделю, — не настолько часто, чтобы отвлечь от работы человека с волей; но достаточно, чтобы держать его в постоянном ожидании нашествия.
Когда он спокойно попробовал разъяснить кое-что Джойс, она ответила:
— Мы тебе сегодня помешали? Но они все в таком восторге от тебя!
— Ну что ж… — проговорил он и пошел спать.
Адвокат Р.А.Холберн, видный специалист по патентам, возвращаясь из дворца Эроусмит-Ленион, сказал ворчливо жене:
— Я могу стерпеть, если хозяин, считая тебя болваном, запустит тебе в голову бутылку. Но меня возмущает, если он каждое твое замечание выслушивает со скучающей улыбкой. А ведь глупейший был у него вид в его дурацкой лаборатории!.. Скажи, каким чертом угораздило Джойс выйти за него замуж?
— Непостижимо!
— Я могу представить себе только одну причину. Конечно, может быть, она…
— Прошу — без сальностей!
— Ну, как бы там ни было… Она же могла найти сколько угодно воспитанных, приятных, интеллигентных людей… да, именно, интеллигентных, потому что ее Эроусмит, может быть, и знает все насчет микробов, но он не отличит симфонии от семафора… Я, кажется, не брюзга, но я не совсем понимаю, зачем нам бывать в доме, где хозяину явно доставляет удовольствие возражать на каждое твое слово… Бедняга, мне его, право, жаль: он, вероятно, даже и не знает, когда бывает груб.