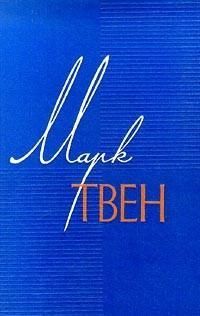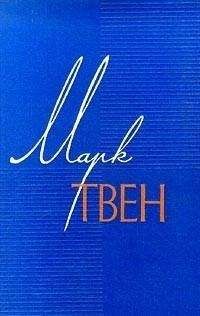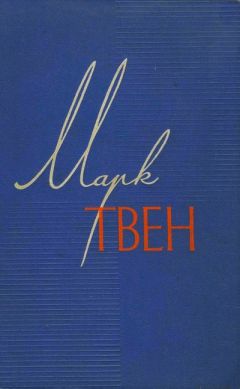Марк Твен - Том 11. Рассказы. Очерки. Публицистика. 1894-1909
Вообще зажигательные речи — одна из специальностей рода человеческого. Вот он взвинтит себя как следует, и кажется: сейчас запустит кирпичом! Но все, на что он способен, это… родить стишки. Боже мой, что за племя! (Читает стихотворение Б.Г. Нэйдела в «Нью-Йорк таймс».)
ЦАРЬ — 1905 ГОДОбломок деспотий, картонный автократ,
Угрюмый отблеск гаснущих планет,
Свечи оплывшей тусклый, слабый свет
В лучах зари, что небо золотит.
Прогнивший плод, который портит сад,
Покинут богом, временем забыт.
Непрочный идол ледяных широт!
Ему безгласный молится народ,
Но идол слышит, как земля дрожит.
И сквозь тяжелый, цепенящий сон
Донесся гул: то гром загрохотал,
И, руша скалы, катится обвал,
И гибель царства льда со страхом чует он.
Красиво, внушительно; надо признать, что сделано яркими мазками. Этот ублюдок владеет кистью! Все же попадись он мне в руки, я бы его распял… «Непрочный идол…» Правильно, это точная характеристика царя: идол, и притом непрочный, мягкотелый, некое царственное беспозвоночное; бедный молодой человек — жалостливый, не от мира сего. «Ему безгласный молится народ…» Суровая правда и выражено кратко, лаконично: в одной этой фразе заключены душа и ум человечества. 140 миллионов на коленях. На коленях перед маленьким жестяным божком. Поставьте их на ноги, соберите вместе, и они заполнят необъятное пространство, теряясь в безбрежной дали, — даже в телескоп не разглядишь, где конец этой покорной массы. Так как же может король ценить уважение человечества? Для этого нет оснований! Между прочим, занятное изобретение — род человеческий. Критикует меня и мою деятельность, забывая, однако, что без его санкции не было бы ни меня, ни моей деятельности. Он — союзник монархов и мощный наш защитник. Он — наша поддержка, наш друг, наш оплот. За это он удостоен нашей благодарности, глубокой и искренней, но не уважения, нет! Пусть брюзжит, ворчит, сердится, — ничего, нас это не тревожит. (Листает альбом, время от времени останавливается, чтобы прочесть газетную вырезку и высказаться по поводу нее.) Как, однако, все эти поэты травят беднягу царя! Каждый поэт французский, немецкий, английский, американский — готов его облаять. Самые лучшие и способные из этой братии, и притом самые злые, — это Свилбурн кажется англичанин, и парочка американцев: Томас Бейли Элдридж и полковник Ричард Уотерсон Гилдер, которых печатают сентиментальные журнал «Сенчюри» и газета «Луисвилл курьер джорнел». Эти вопят громче всех… куда это я заложил их сочинения, не нахожу… Если бы поэты умели не только лаять, но и кусаться, тогда бы, о!.. Хорошо, что это не так. Мудрому царю поэты не страшны, но поэты этого не знают. Невольно вспоминаешь собачонку и железнодорожный экспресс. Когда царский поезд с грохотом проносится мимо, поэт выскакивает и мчится следом несколько минут, заливаясь бешеным лаем, а потом спешит назад в свою конуру, самодовольно оглядываясь по сторонам, уверенный, что напугал царя до смерти, а царь и понятия не имеет, что он там был! На меня они никогда не лают. Почему? Вероятно, мой Департамент взяток подкупает их. Да, наверное это так, иначе кто, как не я, вызывал бы их яростный лай? Ведь материал — то первоклассный! А — а, вот, кажется, что-то и в мой огород! (Читает вполголоса стихотворение.)
Кто право дал тебе душить надежду
И темный твой народ топить в крови?
…
Какою властию тебе дана
Столь страшная, столь зрелая жестокость?
…
Ужасно… Боже, ты, кто это видишь,
Избавь от изверга такого землю!
Нет, ошибся, это тоже адресовано русскому царю[22]. Но иные люди могут сказать, что это подходит и ко мне, и притом довольно точно. «Столь зрелая жестокость…» Жестокость русского царя еще не созрела, но что касается моей, то она не только созрела, а уже и гниет! Никак им рот не заткнешь, они воображают, что это очень остроумно! «Изверг!»… Нет, пусть эта кличка остается царю, у меня ведь уже есть своя. Меня давно называют чудовищем это они очень любят, — преступным чудовищем. А теперь еще прибавили перцу: где-то выкопали доисторического динозавра длиной в 57 и высотой в 16 футов, выставили его в музее в Нью — Йорке и назвали Леопольд II. Однако меня это не трогает, от республики нечего ждать хороших манер. M — м… Кстати, а ведь на меня никогда не рисовали карикатур. Может быть, это потому, что злодеи художники еще не нашли такого оскорбительного и страшного изображения, какое отвечало бы моей репутации? (После размышления.) Ничего не остается, как только купить динозавра. Купить его и изъять! (Опять углубляется в чтение заголовков.)
«НОВЫЕ ФАКТЫ КАЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ (ОТСЕЧЕНИЕ РУК)».
«ПОКАЗАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ МИССИОНЕРОВ»
«СВИДЕТЕЛЬСТВО АНГЛИЙСКИХ МИССИОНЕРОВ».
Старая песня, нудное повторение и перепевы затасканных эпизодов: калечение, убийства, резня и так далее и тому подобное; от такого чтения клонит ко сну!
А вот еще непрошеное явление: мистер Морел со своими излияниями, которые он мог бы с успехом оставить при себе; вводит, разумеется, для важности курсив — такие, как он, жить не могут без курсива!
«Это сплошной душераздирающий рассказ о человеческих страданиях, и произошло это совсем недавно».
Он имеет в виду годы 1904 и 1905. Мне непонятно поведение этого человека. Ведь Морел — королевский подданный, и почтение к монархии должно было бы сдерживать его разоблачительный пыл в отношении меня. Морел хлопочет о реформах в Конго. Это одно уже характеризует его в достаточной мере. Он издает в Ливерпуле листок «Вест-Африкен мейл», существующий на добровольные пожертвования разных сердобольных олухов, и каждую неделю эта газетка кипит, дымит и извергает зловоние, что должно означать последние известия о «зверствах в Конго» по образцу того, что стряпается вот в этой куче книжонок. Надо прикрыть эту газетку! Я изъял книгу о зверствах в Конго, когда она была уже отпечатана, а с газетой разделаться мне и вовсе просто!
(Разглядывает фотографии изувеченных негров, потом швыряет их на пол. Со вздохом.) «Кодак» — это просто бич. Наш самый опасный враг, честное слово! В былые дни мы просто «разоблачали» в газетах рассказы об увечьях, отбрасывая их как клевету, выдумку, ложь назойливых американских миссионеров и разных иностранных коммерсантов, наивно поверивших «политике открытых дверей в Конго», провозглашенной Берлинской хартией, и нашедших эти двери плотно закрытыми. С помощью газет мы приучили христианские народы всего мира относиться к этим рассказам с раздражением и недоверием и ругать самих рассказчиков. Да, в доброе старое время гармония и лад царили в мире. И меня считали благодетелем угнетенного, обездоленного народа. Как вдруг появляется неподкупный «кодак» и вся гармония летит к чертям! Единственный очевидец за всю мою долголетнюю практику, которого я не сумел подкупить! Каждый американский миссионер и каждый потерпевший неудачу коммерсант выписывает себе аппарат, и теперь эти снимки проникли повсюду, как мы ни стараемся перехватывать их и уничтожать. С 10000 церковных кафедр, со страниц 10 000 газет идет сплошным потоком прославление меня, в категорической форме опровергаются все сообщения о зверствах. И вдруг — нате, скромный маленький «кодак», который может уместиться даже в детском кармане, встает и бьет наотмашь так, что у всех разом отнимается язык… А это еще откуда отрывок? (Начинает читать.)
«Впрочем, оставим попытки рассказать о всех его преступлениях! Их список бесконечен, неисчерпаем. Страшная тень Леопольда лежит на Свободном государстве Конго, под этой тенью с невероятной быстротой чахнет и вымирает кроткий пятнадцатимиллионный народ. Это страна могил, Свободное кладбище Конго. Здесь все имеет царственные масштабы: ведь этот кошмарнейший эпизод в истории — дело рук одного человека, одной — единственной особы: короля бельгийского Леопольда. Он, и только он, несет личную ответственность за все бесчисленные преступления, запятнавшие историю государства Конго. Он там полноправный хозяин, абсолютный властелин. Достаточно было бы одного его приказа, и давным — давно кончились бы все злодеяния, достаточно ему и сейчас сказать слово, и все будет прекращено. Но он этого слова не произносит. Для его кармана это невыгодно.
Удивительно наблюдать, как король огнем и мечом уничтожает страну и ее мирных жителей — и все во имя денег, исключительно во имя звонкой монеты. В жажде завоеваний есть нечто царственное — короли извечно предавались этому элегантному пороку; мы к этому привыкли и по привычке прощаем, усматривая в этом что-то благородное; но жажда денег, жажда серебра и медяков, самых заурядных грязных денег — не для того, чтобы обогатить свою страну, а чтобы набить собственный кошелек, — это ново! Это вызывает у нас гадливое чувство, презрительное осуждение. Мы не можем примириться с такими действиями, мы называем их гнусными, неприличными, недостойными короля. Как демократы, мы должны бы издеваться и хохотать, мы должны бы радоваться, когда пурпурную мантию марают в грязи; однако мы почему — то не радуемся. Вот перед нами этот страшный король, этот безжалостный король — кровопийца, ненасытный в своей безумной алчности, на высоком, до неба, памятнике собственных злодеяний, изолированный, оторванный от всего остального человечества, убийца в целях наживы, каких не было даже среди его касты — ни в древности, ни в наши дни, ни среди христиан, ни среди язычников; естественный, законный объект презрения для всех слоев общества — и низших и высших, человек, которого должны бы проклинать все те, кто не жалует тиранов и трусов; и вот, как это ни удивительно, мы предпочитаем не смотреть — по той причине, что это король, и нам больно и неприятно, наш древний атавистический инстинкт страдает, когда монарх падает так низко, и мы не желаем слышать подробностей о том, как это произошло. А увидев их в газете, мы с содроганием отворачиваемся».