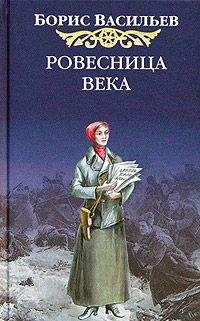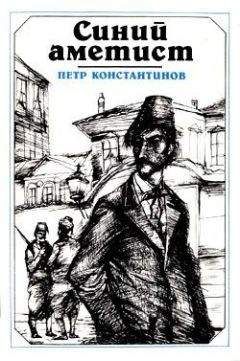Борис Васильев - Были и небыли
— Да, мадемуазель. — Отвиновский в задумчивости провел ладонью по лбу, не понимая, что с ним происходит и отчего так радостно забилось сердце. — Я познакомился с ним в штабе Черняева, когда Андрей уже носил черную косматую бороду, потому что ему взрывом опалило лицо…
Он замолчал, подумав, что говорить нужно не о том, что претерпел Совримович на чужбине, а о чем-то хорошем, добром, уютном. Но им — и кузине, в которую безнадежно, как вдруг подумалось Отвиновскому, был влюблен Совримович, и его матери, — им сейчас важно и дорого было все о близком человеке, погибшем где-то далеко-далеко от дома, в чужой земле и на чужой войне. И он весь долгий вечер рассказывал им все, что знал, что пережил сам, шаг за шагом приближаясь к тому моменту, когда он сказал: «Прощайте, друг» — и нажал спусковой крючок револьвера. Сейчас Отвиновский все помнил, все видел и все слышал и, рассказывая, все время лихорадочно думал, как же ему обойти эти последние страшные секунды. Он столько лет воевал, столько лет был лишен семьи, общества, общения с милыми, воспитанными женщинами, что давно уже разучился обманывать даже во спасение, и теперь с ужасом ожидал, что рано или поздно признается в том, что сам, собственными руками застрелил Андрея Совримовича.
Но разговор уже переставал быть плавным. Он уже прыгал и разветвлялся, отходя от случаев с Андреем, переключаясь на иные случаи, обрастая подробностями. Первое время Отвиновский не решался говорить о другом, коротко отвечал на вопросы и снова возвращался к Совримовичу. Но потом понял, что слушательницам нужны именно подробности, а не сам рассказ; им чисто по-женски хотелось знать, с кем дружил их Андрей, что ел и пил, где спал и тепло ли одевался. И вздохнул с облегчением: он и не предполагал, что женщин, оказывается, всегда интересуют подробности жизни, а не подробности смерти.
Теперь рассказов хватало на все вечера, потому что он начал рассказывать о жизни. Смерть конечна и однозначна, а жизнь не имеет ни концов, ни начал, и Отвиновский вдруг сам ощутил эту безграничность и обрадовался ей. Он словно переживал заново то, что когда-то происходило с ним, но происходило торопливо и напряженно, в постоянной борьбе, а потому походило скорее на какой-то набросок жизни, чем на нее самое. И только сейчас, в воспоминаниях, он жил неторопливо и осмысленно, внимательно вглядываясь в людей и события. Ему казалось, что только теперь он начинает понимать и этих людей и все, что происходило тогда.
Старая барыня была очень больна и вставала только к вечерним рассказам. А днем Отвиновский часами гулял вместе с Олей по старому, запущенному саду. Звенели птицы, звенели соки в деревьях, звенела молодая листва — звенела сама жизнь в эти прекрасные весенние дни.
— Мы всегда жили очень скромно. — Теперь Оля все чаще рассказывала о себе. — Когда Андрей учился, все деньги уходили на ученье, но это было как-то привычно. А когда он погиб, нам пришлось продавать последнее и экономить на дровах. Сейчас мы живем в самой серединочке дома, а крылья всю зиму не топились, пустуют и разрушаются. Я хотела идти в гувернантки или в компаньонки, но здесь мало кому нужны такие нахлебницы. Вы думали когда-нибудь о богатстве?
— Нет, — сказал он. — Я не знаю, о чем я думал. О свободе? Нет, я не думал о свободе, я просто хотел ее, как голодный хочет куска хлеба. Хотел, даже не мечтая.
— А о чем вы мечтали?
— Мечтал? — Он задумался. — Я не умею мечтать. Я умею стрелять, скакать на лошади, рубить с обеих рук. Вы сказали о богатстве, а я не знаю, что это такое и зачем людям нужно богатство. Людям нужно есть и пить, одеваться и иметь теплый угол — вот, пожалуй, и все, что им нужно. А богатство… Я бы собрал все богатства, какие только есть, и купил бы на них хлеб и одежду для тех, кто голоден и раздет.
— Рядом с нами живут очень богатые люди, однажды я была у них… — она запнулась, — по делам. Меня приняла сама хозяйка, а я смотрела на ее уши. В каждой серьге сверкало но бриллианту, на который можно было бы накормить и одеть половину уезда.
— Вы пытались получить службу?
— Золушек приглашают на балы только в сказках, — грустно улыбнулась Оля. — Мне было сказано, что если бы я была француженкой или англичанкой, то они бы, пожалуй, подумали, как мне помочь.
— А еще где-нибудь вы искали место?
— Искала. — Оля невесело усмехнулась.
— И там тоже отказали?
— Напротив, там обещали райскую жизнь.
— И что же?
— Я убежала. Бегом и немедленно.
— Почему? — Он спохватился: — Извините, я не имею права расспрашивать вас.
— Отчего же? Мне предложили большое жалованье и даже намекнули на богатые подарки, если я… хорошо пойму свои обязанности. И за все это я должна была читать романы хозяину дома.
— Всего-навсего?
— Всего-навсего. По вечерам и перед сном. А хозяин — шестидесятилетний старик с такими глазами, что я бежала оттуда три версты без передыху. А теперь жду, не придется ли бежать обратно. Простите, мне не следовало об этом говорить, но ведь вы сказали сущую правду: человеку не нужны богатства, ему нужно лишь есть, пить, одеваться и иметь свой угол.
Он ничего не ответил. Долго шел молча, потом спросил неожиданно:
— Вы собирались замуж за Андрея?
— Тетя мечтала об этом, — нехотя сказала Оля.
— И Андрей, — кивнул Отвиновский. — Я знаю, он успел сказать, что был влюблен в вас.
Оля промолчала. Шла чуть впереди него, сосредоточенно глядя под ноги. Потом вдруг остановилась.
— Скажите, господин Отвиновский, это была мучительная смерть? Тетя боится расспрашивать вас о его последних минутах, а сама говорит о них и плачет.
— Нет, — помедлив, сказал Отвиновский. — Конечно, смерть есть смерть, но не надо думать о ней, мадемуазель. Мне у вас так хорошо, как еще никогда не было, может быть, как раз потому, что я стал думать о жизни.
— И что же вы о ней стали думать?
Он хотел заглянуть в ее удивительные глаза, но она упорно смотрела мимо.
— Если бы у меня был дом, я бы увез вас с собой, — угрюмо сказал он. — Да, увез бы, потому что я эгоист. Мне хорошо с вами и плохо без вас. Пусто, как в нежилом доме. Бога ради, простите…
— Почему? — Теперь она пристально смотрела на него огромными темными глазами. — Почему вы думаете, что вам плохо без меня?
— Потому что я много лет жил без вас и мне было плохо, — тихо сказал он. — Это была не жизнь, это была… Я не знаю, что это было, вероятно, сплошная война, а теперь — мир. В моей душе теперь мир, Оля, и я хочу унести этот мир с собой. Но я не знаю, как это сделать.
Она продолжала молча смотреть на него, точно пытаясь проникнуть внутрь и заглянуть в самое сердце. Он не понял ее взгляда и лишь виновато развел руками.
— Я солдат, мадемуазель Оля, я не умею разговаривать с барышнями, и вы можете прогнать меня. Но я сказал вам сущую правду. Я больше никогда не вернусь к этому разговору, даю вам слово.
— Пора обедать. — Оля повернулась и пошла к дому. — Только, прошу вас, не давайте больше таких слов.
— Оля! — Он нагнал ее, рискнул взять за руку. — Оля, обождите.
— Завтра, — она впервые рассмеялась застенчиво и счастливо. — Завтра днем здесь же, хорошо?
Мягко высвободила руку и, подобрав платье, легко и молодо побежала к крыльцу. Отвиновский глядел ей вслед, радуясь и удивляясь этой прорвавшейся в ней грациозности.
После обеда Отвиновский обычно валялся на диване, читал или просматривал старые журналы, но сегодня не мог, ни лежать, ни читать. Он, то бродил по комнате, натыкаясь на мебель, то выходил в сад, часто доставая часы и очень досадуя, что так медленно тянется время.
После сна по заведенному исстари порядку пили чай с вареньем, а разговоры начинались потом, когда недоверчивая Тарасовна — старая и одинокая нянька Андрея Совримовича, жившая в доме на положении члена семьи, — убирала со стола. Сегодня Отвиновский ожидал этого с особым нетерпением, говорил легко и интересно, смотрел в Олины глаза, и она не опускала их, а лишь прикрывала ресницами, чуть заметно улыбаясь ему. В этот вечер он говорил о поручике Олексине, о болгарах, Стойчо Меченом и его сестре Любчо. Ему хотелось, чтобы Оле поправились его друзья, и рассказ его звучал восторженно и увлеченно, и они не сразу расслышали стук во входную дверь.
— Пана гостя спрашивают! — крикнула из передней Тарасовна. — В экипаже приехали!
Никто ничего не успел сказать, как в комнату вошел офицер в сопровождении двух жандармов. Жандармы остались у порога, а офицер отдал честь и шагнул к столу.
— Прошу прощения за незваный визит, сударыня, я лишь исполняю долг. Господин Збигнев Отвиновский?
Отвиновский уже все понял. В последний раз долгим взглядом посмотрел в глубокие, испуганно раскрывшиеся черные глаза, медленно встал и уж более не заглядывал в них. Не видел растерянности, ужаса, отчаяния, слез, которые вдруг переполнили их до краев.
— Что вам угодно?
— Мне приказано арестовать вас и под охраной доставить в Киев. Потрудитесь сдать оружие и все находящиеся при вас бумаги.