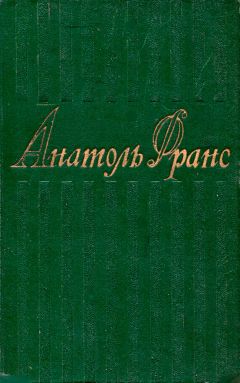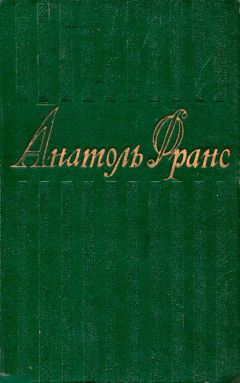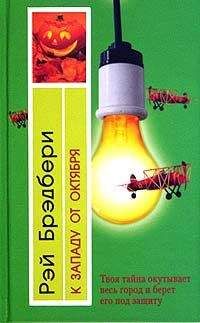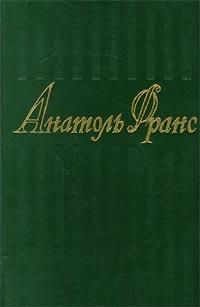Анатоль Франс - 1. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга моего друга.
Да, друзья мои, перелистывая старинные, источенные червями книги, рассматривая ржавые доспехи, трухлявые резные изделия из дерева, которые вы продавали, чтобы заработать на кусок хлеба, я еще мальчиком глубоко ощутил бренность всего земного и тщету жизни! Я догадался, что мы, смертные, лишь изменчивые образы во вселенской иллюзии, и с той поры стал склонен к грусти, нежности и состраданию.
Как видите, школа на вольном воздухе умудрила меня. Домашняя школа оказалась еще полезнее. Так приятно обедать дома, когда на столе белая скатерть, прозрачные графины, а вокруг приветливые лица; ежедневные семейные трапезы с их задушевной беседой прививают ребенку любовь к домашней жизни, понимание скромных и святых чувств. Если к тому же у него разумные и добрые родители, как это было у меня, то застольные беседы прививают ему верный взгляд на вещи и любовь к окружающему. Он ежедневно вкушает тот благословенный хлеб, который отец небесный преломил и подал ученикам в Эммаусе. Как они, он говорит себе: «Сердце мое горит во мне!»
Трапезы живущих в учебных заведениях лишены уюта и благодетельного влияния. О, домашняя школа, какая это хорошая школа!
Однако мои слова истолковали бы превратно, предположив, что я презираю классическое образование. Полагаю, что для развития ума ничто не может быть полезнее изучения древних греков и римлян, по методу старых французских ученых классиков. Слово «классическая» в значении «изящная по форме» великолепно определяет античную культуру.
Мальчуган, о котором я вам только что рассказывал с симпатией, надеюсь простительной, ибо в ней нет себялюбия и относится она к призраку, этот мальчуган, вприпрыжку, словно воробей, бежавший по Люксембургскому саду, верьте мне, был не плохим классиком. В его детской душе вызывали восторг мощь римлян и великие образы античной поэзии. Хотя он как приходящий и мог наслаждаться свободой, слоняться по лавочкам, обедать с родителями и обогащать впечатлениями свой ум и сердце, он был восприимчив к красотам древних языков, преподаваемых в коллеже. Мало того, он с увлечением подражал аттическому и цицероновскому стилю, насколько это было доступно школьникам, руководимым честными педантами.
Он трудился не ради славы, имя его не красовалось в списке награждаемых учеников, но он много трудился ради удовольствия, как говорил Лафонтен. Его переводы были написаны прекрасным стилем, а латинские сочинения заслужили бы похвалу даже самого инспектора, не греши они синтаксическими ошибками, отнюдь не украшавшими их. Ведь он же рассказывал вам, что в двенадцать лет плакал над Титом Ливием.
Однако красота предстала перед ним во всей своей великолепной простоте лишь тогда, когда он соприкоснулся с Грецией. Но понял он эту красоту не скоро. Сначала его душу омрачили басни Эзопа. Их толковал горбатый учитель, — горбатый физически и нравственно. Представляете вы себе Терсита[260], ведущего юных галатов в рощу Муз? В голове мальчика это не укладывалось. Вы, может быть, думаете, что горбатый учитель, избравший своей специальностью толкование басен Эзопа, был приемлем в этой роли? Конечно, нет! Это был горбун, но горбун необычный, горбун-исполин, глупый и бесчеловечный, злобный и несправедливый. Он не годился даже на то, чтобы разъяснять мысли горбуна Эзопа. Впрочем, плохие назидательные басенки, приписываемые Эзопу, дошли до нас уже засушенные некиим византийским монахом, узколобым схоластом. В пятом классе мне не было известно происхождение эзоповских басен, и оно не интересовало меня, но и тогда я судил о них совершенно так же, как и теперь.
После Эзопа мы приступили к изучению Гомера. Я видел Фетиду[261], как белое облако, выплывшую из глуби морской; я видел Навзикаю и подруг ее, и пальму Делоса, и небо, и землю, и море, и улыбающуюся сквозь слезы Андромаху… Я понял, я почувствовал… Полгода я не в силах был стряхнуть с себя чары «Одиссеи». Это повлекло за собой множество наказаний. Но что значили наказания! Я плавал с Улиссом по «фиолетовому морю». Затем я открыл трагедии. Эсхил был мне не очень понятен. Но Софокл и Еврипид ввели меня в дивный мир героев и героинь и приобщили к поэзии страдания. При чтении каждой трагедии я снова радовался, лил слезы и трепетал!
Алкеста и Антигона пробудили во мне самые возвышенные мечты[262], какие только доступны мальчику. Сидя на парте, перепачканной чернилами, уткнувши нос в словарь, я видел божественно прекрасные лица, руки, словно выточенные из слоновой кости, бессильно повисшие вдоль белых туник, я слышал голоса, мелодичные жалобы которых звучали чудеснее самой чудесной музыки.
Это навлекло на меня новые наказания. И справедливо: я занимался в классе посторонними делами. Увы! Эта привычка осталась. В какой бы класс жизни меня ни поместили, боюсь, как бы я, даже убеленный сединами, не заслужил бы того же упрека, что и во втором классе: «Нозьер, вы занимаетесь в классе посторонними делами!»
Но больше всего сияние и музыка античной поэзии опьяняли меня в зимние вечера на улице, по выходе из коллежа. При свете газовых фонарей и у освещенных витрин я перечитывал стихи и по дороге домой повторял их вполголоса. На узких улицах предместья, уже окутанных мглой, царило оживление зимних вечеров.
Случалось, что я натыкался на мальчишку из булочной, несшего корзину с хлебом на голове и так же, как я, погруженного в мечты, или же вдруг чувствовал на своей щеке горячее дыхание усталой лошади, тащившей повозку. Но действительность не портила мне грез, потому что я нежно любил старинные улицы предместья, чьи камни были свидетелями моих младенческих лет. Однажды вечером у фонаря торговца каштанами я прочел слова Антигоны, и вот четверть века спустя, стоит мне вспомнить строфу:
О могила, о брачное ложе!.. —
как перед моими глазами возникает овернец, надувающий бумажный пакетик, и я чувствую тепло жаровни, на которой жарятся каштаны. Воспоминание об этом человеке гармонично сливается в моей памяти со стенаниями фиванской девы.
Так я запомнил множество стихотворений. Так приобрел полезные и ценные знания. Так изучил древних классиков.
Мой метод был хорош для меня, он может быть непригоден для другого. Рекомендовать его я поостерегусь.
Впрочем, должен покаяться: мой вкус, воспитанный на Софокле и Гомере, оказался недостаточно хорошим для класса риторики. Так заявил наш преподаватель, и я охотно ему верю. В семнадцать лет вкус редко бывает хорошим. Дабы улучшить мой вкус, учитель риторики посоветовал мне внимательно изучить полное собрание сочинений Казимира Делавиня[263]. Я не последовал его совету. Мои вкусы сложились под влиянием Софокла, и от этого влияния я не мог отделаться. Преподаватель риторики отнюдь не казался мне, да и теперь не кажется, тонким ценителем литературы, но, несмотря на скучный склад ума, он был человеком прямым и гордым. Если он и преподал нам некоторые литературные ереси, то во всяком случае на личном примере показал, что такое честный человек.
Это тоже очень ценное знание. Г-на Шаррона уважали все ученики. Дети безошибочно определяют моральную ценность своих учителей. О несправедливом горбуне и о честном Шарроне я до сих пор думаю точно так же, как и двадцать пять лет тому назад.
Но день меркнет над платанами Люксембургского сада, и призрак мальчугана, вызванный мною, сливается с тьмой. Прощай, мое маленькое «я», утраченное мною, скорбь моя о тебе была бы безутешной, если бы я не обрел тебя вновь, еще более милым, в моем сыне.
XI. Миртовый лес
I
Ребенком я был очень понятлив, но к семнадцати годам поглупел. Я стал так застенчив, что каждый раз, как мне приходилось здороваться или бывать в обществе, на лбу у меня выступал пот. В присутствии женщин на меня нападал столбняк. Я буквально следовал преподанному мне в одном из младших классов наставлению из «Подражания Христу», которое я запомнил потому, что стихи, принадлежащие Корнелю[264], показались мне необычными:
Беги от женщины, как от сетей и пут,
Чтоб враг не отыскал дорогу искушенью,
Пусть добродетели послужат украшенью
Тех, что смиренно бога обретут.
Простись с соблазном, душу не губи
И женщину лишь в боге возлюби.[265]
Я следовал совету старого монаха-мистика, но следовал вопреки своей воле. Мне бы хотелось, встречая женщин, не разлучаться с ними так быстро.
Из приятельниц моей матери меня особенно влекло к одной, с которой мне хотелось бы побеседовать подольше. Это была вдова Альфонса Ганса, пианиста, умершего молодым в расцвете славы. Ее звали Алисой. Я не мог бы определить, какие у нее волосы, глаза, зубы. Как можно определить то, что трепещет, сияет, искрится, ослепляет?.. Но мне казалось, что она прекраснее мечты и божественно хороша. Матушка утверждала, что черты лица у г-жи Ганс самые обыкновенные, если рассматривать их в отдельности. Всякий раз, когда матушка высказывала такое мнение, отец недоверчиво покачивал головой. Должно быть, мой милый отец поступал, как и я: он не рассматривал в отдельности черты лица г-жи Ганс. И каковы бы они ни были в отдельности, в целом они были прекрасны. Не слушайте матушку, уверяю вас, что г-жа Ганс была прекрасна. Г-жа Ганс влекла меня: красота сладостна; г-жа Ганс пугала меня: красота страшна!