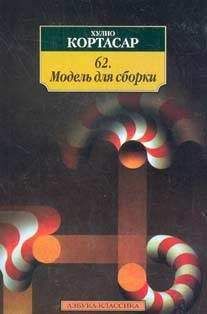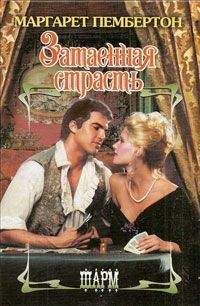Хулио Кортасар - Игра в классики
Он потормошил Талиту, которая рассердилась, но открыла глаза, и прочел ей часть, касающуюся военных дел, и обоим пришлось засовывать головы под подушки, чтобы не разбудить всю клинику. Но сначала они пришли к выводу, что большинство аргентинских военных рождены под знаком Тельца. Тревелер, рожденный под знаком Скорпиона, был пьян и заявил, что намерен тотчас же потребовать себе чин лейтенанта, дабы посвятить себя маскарадным костюмам и переодеваниям по случаю военных парадов.
— Мы организуем грандиозные праздники сбора винограда, — говорил Тревелер, высовывая голову из-под подушки и засовывая ее обратно, едва успевал кончить фразу. — Ты явишься со своими соплеменниками по пампской расе, я не сомневаюсь, что ты — из пампских, поскольку на тебя пошло две, а то и больше красок.
— Я — белая, — сказала Талита. — И очень жаль, что ты не рожден под знаком Козерога, мне бы жутко хотелось, чтобы ты стал меченосцем. Ну хотя бы гонцом или нарочным.
— Все гонцы — Водолеи, че. Орасио, кажется, Рак?
— Если и не Рак, то вполне того достоин, — сказала Талита, закрывая глаза.
— Ему выпала всего-навсего авиация. Представь, как он в Банг-Банге на бреющем полете проносился над кондитерской «Орел», когда все пьют там чай с печеньем. Вот это да.
Талита погасила свет и прижалась к Тревелеру, а тот обливался потом и корчился, со всех сторон окруженный зодиакальными знаками, национальными корпорациями уполномоченных и с виду желтыми минералами.
— Орасио сегодня видел Магу, — сказала Талита как бы сквозь сон. — Во дворе, два часа назад, когда ты дежурил.
— А, — сказал Тревелер, переворачиваясь на спину и шаря на тумбочке сигареты по системе Брайля. — Наверное, я сунул их куда-нибудь к благочестивым хранителям коллекции.
— А Магой была я, — сказала Талита, прижимаясь к Тревелеру еще больше. — Не знаю, понимаешь ты или нет.
— Пожалуй, да.
— Это должно было случиться. Одно странно: почему он так удивился своей ошибке.
— Ты же знаешь, какой он, Орасио, — сам кашу заварит и смотрит с таким видом, с каким щенок пялится на собственные какашки.
— Мне кажется, с ним уже было такое в день, когда мы встречали его в порту, — сказала Талита. — Трудно объяснить, он ведь даже не взглянул на меня, и вы оба вышвырнули меня, как собачку, да вдобавок с котом под мышкой.
— Объектом Мелкого выращивания, — сказал Тревелер.
— Он спутал меня с Магой, — стояла на своем Талита — А все остальное должно было произойти так же обязательно, как обязательно перечисление у Сеферино, одно за другим.
— Мага, — сказал Тревелер, затягиваясь так, что лицо его высветилось в темноте, — тоже уругвайка. Поэтому вполне закономерно.
— Дай мне рассказать, Ману.
— Лучше не надо. Ни к чему.
— Сначала пришел старик с голубем, и тогда мы спустились в подвал. Пока мы спускались, Орасио все время говорил про дыры, которые не дают ему покоя. Он был в отчаянии, Ману, страшно было видеть, каким спокойным он казался, а на самом деле… Мы спустились на лифте, и он пошел закрывать холодильник, просто кошмар.
— Значит, ты спустилась туда, — сказал Тревелер. — Ну что ж.
— Это совсем не то, — сказала Талита. — Дело не в том, что мы спустились. Мы разговаривали, но мне все время казалось, будто Орасио находится совсем в другом месте и разговаривает с другой женщиной, ну, скажем, с утонувшей женщиной. Мне только теперь это в голову пришло, Орасио никогда не говорил, что Мага утонула в реке.
— Она и не тонула, — сказал Тревелер. — Я уверен, хотя, разумеется, не имею об этом ни малейшего понятия. Но достаточно знать Орасио.
— Он думает, что она умерла, Ману, и в то же время чувствует ее рядом, а сегодня ночью ею была я. Он сказал, что видел ее и на судне, и под мостом у авениды Сан-Мартин… Он разговаривает не так, как во время галлюцинаций, и не старается, чтобы ему верили. Он разговаривает, и все, и это — на самом деле, это — есть. Когда он закрыл холодильник, я испугалась и что-то, уж не помню что, сказала, и он так посмотрел на меня, как будто смотрел не на меня, а на ту, другую. А я вовсе не зомби, Ману, я не хочу быть ничьим зомби.
Тревелер провел рукой по ее волосам, но Талита нетерпеливо отстранилась. Она сидела на кровати, и он чувствовал: ее бьет дрожь. В такую жару — и дрожит. Она сказала, что Орасио поцеловал ее, и хотела объяснить, что это был за поцелуй, но не находила слов и в темноте касалась Тревелера руками, ее ладони, как тряпичные, ложились ему на лицо, на руки, водили по груди, опирались на его колени, и из этого рождалось объяснение, от которого Тревелер не в силах был отказаться, прикосновение заражало, оно шло откуда-то, из глубины или из высоты, откуда-то, что не было этой ночью и этой комнатой, заражавшее прикосновение, посредством которого Талита овладевала им, как невнятный лепет, неясно возвещающий что-то, как предощущение встречи с тем, что может оказаться предвестьем, но голос, который нес ему эту весть, дрожал и ломался, и весть сообщалась ему на непонятном языке, и все-таки она была единственно необходимой сейчас и требовала, чтобы ее услышали и приняли, и билась о рыхлую губчатую стену из дыма и из пробки, голая, неуловимо-непонятная, выскальзывала из рук и выливалась водою вместе со слезами.
«На мозгах у нас короста», — подумал Тревелер. Он слушал что-то про страх, про Орасио, про лифт, про голубя; постепенно уху возвращалась способность принимать информацию. Ах, так, значит, он, бедный-несчастный, испугался, что он ее убил, смешно слушать.
— Он так и сказал? Трудно поверить, сама знаешь, какой он гордый.
— Да нет, не так, — сказала Талита, отбирая у него сигарету и затягиваясь жадно, как в немом кинокадре. — Мне кажется, страх, который он испытывает, — вроде последнего прибежища, это как перила, за которые цепляются перед тем, как броситься вниз. Он так был рад, что испытал страх сегодня, я знаю, он был рад.
— Этого, — сказал Тревелер, дыша, как настоящий йог, — даже Кука не поняла бы, уверяю тебя. И мне приходится напрягать все мои мыслительные способности, потому что твое заявление насчет радостного страха, согласись, старуха, переварить трудно.
Талита подвинулась немного и прижалась к Тревелеру. Она знала, что она снова с ним, что она не утонула, что он удерживает ее на поверхности, а внизу, в глубинах вод, — жалость, чудотворная жалость. Оба они почувствовали это одновременно и скользнули друг к другу как бы затем, чтобы упасть в себя самих, на их общей земле, где и слова, и ласки, и губы закручивались в один круг, ах эти успокаивающие метафоры, эта старая грусть, довольная тем, что все вернулось к прежнему, и что все — прежнее, и ты по-прежнему держишься на плаву, как бы ни штормило и кто бы тебя ни звал и как бы ни падал.
(—140)
134
Следует помнить, что сад строгой планировки в так называемом «французском стиле», где клумбы, газоны, дорожки расположены в строго геометрическом порядке, требует высокого уровня знаний и большого ухода.
И напротив, в саду английского типа легко скрадываются все просчеты, которые может допустить садовод-любитель. Несколько кустов, квадрат газона, грядка с цветами вдоль стены или живой изгороди — все это, не броское, вперемежку, составит основные элементы декоративного и очень практичного ансамбля.
Если, к несчастью, отдельные экземпляры не дадут ожидаемых результатов, их очень легко пересадить в другое место; и они не будут создавать ощущения несовершенства или неухоженности всего сада в целом, поскольку остальных цветов, разбросанных разноцветными пятнами, различных по высоте, всегда хватит, чтобы радовать глаз.
Этот способ планировки, чрезвычайно ценимый в Великобритании и Соединенных Штатах, называется mixed border, т.е. «смешанный газон». Цветы, высаженные таким образом, сплетаются, перемешиваются друг с другом, как если бы они выросли сами по себе, и придают саду естественный вид, в то время как высадка цветов на строго квадратных и круглых клумбах всегда вносит определенную искусственность и требует безупречности и совершенства.
Другими словами, как по соображениям практического, так и эстетического свойства садоводу-любителю следует посоветовать mixed border.
«Almanaque Hachette» [340](—25)
135
— Ну просто пальчики оближешь, — сказала Хекрептен, — я два съела, пока жарила, воздушные, да и только.
— Завари еще мате без сахара, старуха, — сказал Оливейра.
— Сию минуту, дорогой. Только переменю тебе холодный компресс.
— Спасибо. Как странно есть пончики с завязанными глазами, че. Так, наверное, тренируют тех, кто будет открывать для нас космос.
— Ты про тех, которые летают на Луну в специальных аппаратах? Их засовывают в капсулу или что-то вроде, так?
— Совершенно верно, и дают им пончики с мате.