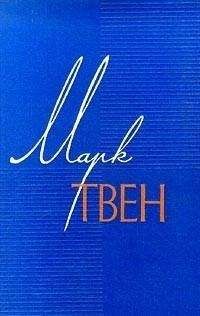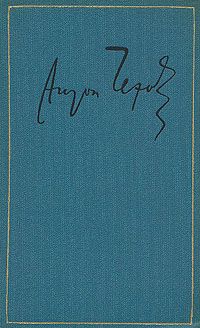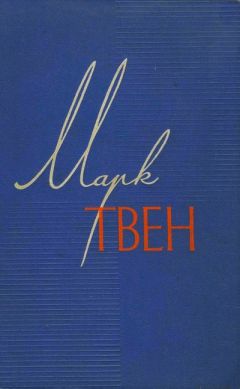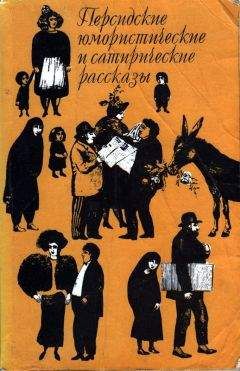Марк Твен - Том 11. Рассказы. Очерки. Публицистика. 1894-1909
Ребенок засмеялся! (Долгая пауза. Размышляет.) О, невинное дитя! Лучше бы он не смеялся, мне это как–то неприятно. (Читает.)
"Искалеченные дети".
"Власти одобряют работорговлю между племенами".
"Для уплаты громадных штрафов, наложенных на деревни за задержку принудительных поставок, туземцам приходится продавать в рабство детей и товарищей".
"Родители вынуждены продать своего маленького сына".
"Вдова вынуждена продать свою маленькую дочь".
Черт побери этого дотошного брюзгу, что ж, по его мнению, должен был я делать? Дать поблажку вдове только потому, что она вдова? Будто он не знает, что нынче там, кроме вдов, почти никого и не осталось! Вдовы как таковые мне не мешают, я против них ничего не имею, но деловую сторону я должен помнить, мне тоже надо жить, хоть кое–кому это неугодно! (Читает.)
"Мужчин запугивают пытками жен и дочерей (чтобы они быстрее сдавали каучук и пищевые продукты). Стражник сообщил мне, что он захватил этих женщин и привел сюда (заковав в железные воротники и соединив цепью) по приказу своего начальника".
"По словам агента, его заставляли ловить главным образом женщин, так как тогда мужья спешили уплатить задолженность; но он не рассказал, где достают себе пропитание дети, у которых отняты родители".
"Партия пленников – 15 женщин".
"Женщины и дети обречены на голодную смерть в тюрьме".
Голодная смерть! Страшные, нестерпимые муки, длящиеся много, много дней и еще много, много дней. Силы тают постепенно, медленно иссякая... Да, это, пожалуй, самая страшная из всех смертей. Видеть, как проносят каждый день мимо тебя еду, а тебе не дают... Конечно, малыши плачут от голода, терзая этим материнское сердце!.. (Вздыхает.) Ох, что же делать, иначе нельзя, обстоятельства вынуждают нас поддерживать дисциплину. (Читает.)
"60 женщин распяты".
Вот уж это бестактно и глупо! Христианский мир содрогнется, прочитав такое сообщение, начнет вопить: "Профанация святой эмблемы!" Да, тут уж наши христиане загудят! 20 лет меня обвиняли в том, что я совершал по 500000 убийств в год, и они молчали, но профанация Символа – это для них вопрос серьезный. Они сразу встрепенутся и начнут копаться в моем прошлом. Гудеть будут? Еще как! Я, кажется, уже слышу нарастающий гул... Конечно, не следовало распинать этих женщин, разумеется, не следовало. Теперь мне самому это понятно, и я сожалею, что так случилось, искренне сожалею. Как будто нельзя было попросту содрать с них кожу? (Вздыхает.) Но никто из нас об этом не подумал, – разве все предугадаешь? И кто из людей не ошибается?
Да, эти казни на кресте наделают много шуму. Как уже не раз бывало, люди опять начнут спрашивать, неужто я надеюсь завоевать и сохранить уважение человечества, если буду по–прежнему посвящать свою жизнь грабежам и убийствам. (Презрительно.) Интересно знать, когда они от меня слышали, что я нуждаюсь в уважении человечества? Не принимают ли они меня за простого смертного? Уж не забыли ли они, что я король? Кто из королей ценил когда–нибудь уважение человечества? Я имею в виду – ценил по–настоящему, в глубине души? Если бы эти люди поразмыслили, они бы поняли, что королю просто нет смысла ценить чье–то уважение. Он вознесен на недосягаемую высоту и, оглядывая лежащий перед ним мир, видит несметные сонмища жалких людишек, которые поклоняются десятку людей и терпят их гнет и эксплуатацию, а люди эти ничуть не лучше и не благороднее их и созданы по тому же подобию, вернее – из той же грязи. Послушать их речи, так вообразишь, что они киты, но король–то знает, что они не киты, а лягушки. История выдает их с головой. Если бы люди были людьми, разве допустили бы они, чтобы существовал русский царь? Или я? А мы существуем, мы в безопасности и с божьей помощью будем и далее продолжать свою деятельность. И род человеческий будет столь же покорно принимать наше существование. Кое–когда, может быть, состроит недовольную гримасу, произнесет зажигательную речь, но так и останется на коленях.
Вообще зажигательные речи – одна из специальностей рода человеческого. Вот он взвинтит себя как следует, и кажется: сейчас запустит кирпичом! Но все, на что он способен, это... родить стишки. Боже мой, что за племя! (Читает стихотворение Б.Г. Нэйдела в "Нью–Йорк таймс".)
ЦАРЬ – 1905 ГОД
Обломок деспотий, картонный автократ,
Угрюмый отблеск гаснущих планет,
Свечи оплывшей тусклый, слабый свет
В лучах зари, что небо золотит.
Прогнивший плод, который портит сад,
Покинут богом, временем забыт.
Непрочный идол ледяных широт!
Ему безгласный молится народ,
Но идол слышит, как земля дрожит.
И сквозь тяжелый, цепенящий сон
Донесся гул: то гром загрохотал,
И, руша скалы, катится обвал,
И гибель царства льда со страхом чует он.
Красиво, внушительно; надо признать, что сделано яркими мазками. Этот ублюдок владеет кистью! Все же попадись он мне в руки, я бы его распял... "Непрочный идол..." Правильно, это точная характеристика царя: идол, и притом непрочный, мягкотелый, некое царственное беспозвоночное; бедный молодой человек – жалостливый, не от мира сего. "Ему безгласный молится народ..." Суровая правда и выражено кратко, лаконично: в одной этой фразе заключены душа и ум человечества. 140 миллионов на коленях. На коленях перед маленьким жестяным божком. Поставьте их на ноги, соберите вместе, и они заполнят необъятное пространство, теряясь в безбрежной дали, – даже в телескоп не разглядишь, где конец этой покорной массы. Так как же может король ценить уважение человечества? Для этого нет оснований! Между прочим, занятное изобретение – род человеческий. Критикует меня и мою деятельность, забывая, однако, что без его санкции не было бы ни меня, ни моей деятельности. Он – союзник монархов и мощный наш защитник. Он – наша поддержка, наш друг, наш оплот. За это он удостоен нашей благодарности, глубокой и искренней, но не уважения, нет! Пусть брюзжит, ворчит, сердится, – ничего, нас это не тревожит. (Листает альбом, время от времени останавливается, чтобы прочесть газетную вырезку и высказаться по поводу нее.) Как, однако, все эти поэты травят беднягу царя! Каждый поэт французский, немецкий, английский, американский – готов его облаять. Самые лучшие и способные из этой братии, и притом самые злые, – это Свилбурн кажется англичанин, и парочка американцев: Томас Бейли Элдридж и полковник Ричард Уотерсон Гилдер, которых печатают сентиментальные журнал "Сенчюри" и газета "Луисвилл курьер джорнел". Эти вопят громче всех... куда это я заложил их сочинения, не нахожу... Если бы поэты умели не только лаять, но и кусаться, тогда бы, о!.. Хорошо, что это не так. Мудрому царю поэты не страшны, но поэты этого не знают. Невольно вспоминаешь собачонку и железнодорожный экспресс. Когда царский поезд с грохотом проносится мимо, поэт выскакивает и мчится следом несколько минут, заливаясь бешеным лаем, а потом спешит назад в свою конуру, самодовольно оглядываясь по сторонам, уверенный, что напугал царя до смерти, а царь и понятия не имеет, что он там был! На меня они никогда не лают. Почему? Вероятно, мой Департамент взяток подкупает их. Да, наверное это так, иначе кто, как не я, вызывал бы их яростный лай? Ведь материал–то первоклассный! А–а, вот, кажется, что–то и в мой огород! (Читает вполголоса стихотворение.)
Кто право дал тебе душить надежду
И темный твой народ топить в крови?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Какою властию тебе дана
Столь страшная, столь зрелая жестокость?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ужасно... Боже, ты, кто это видишь,
Избавь от изверга такого землю!
Нет, ошибся, это тоже адресовано русскому царю[23]*. Но иные люди могут сказать, что это подходит и ко мне, и притом довольно точно. "Столь зрелая жестокость..." Жестокость русского царя еще не созрела, но что касается моей, то она не только созрела, а уже и гниет! Никак им рот не заткнешь, они воображают, что это очень остроумно! "Изверг!"... Нет, пусть эта кличка остается царю, у меня ведь уже есть своя. Меня давно называют чудовищем это они очень любят, – преступным чудовищем. А теперь еще прибавили перцу: где–то выкопали доисторического динозавра длиной в 57 и высотой в 16 футов, выставили его в музее в Нью–Йорке и назвали Леопольд II. Однако меня это не трогает, от республики нечего ждать хороших манер. M–м... Кстати, а ведь на меня никогда не рисовали карикатур. Может быть, это потому, что злодеи художники еще не нашли такого оскорбительного и страшного изображения, какое отвечало бы моей репутации? (После размышления.) Ничего не остается, как только купить динозавра. Купить его и изъять! (Опять углубляется в чтение заголовков.)
"НОВЫЕ ФАКТЫ КАЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ (ОТСЕЧЕНИЕ РУК)".
"ПОКАЗАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ МИССИОНЕРОВ"
"СВИДЕТЕЛЬСТВО АНГЛИЙСКИХ МИССИОНЕРОВ".
Старая песня, нудное повторение и перепевы затасканных эпизодов: калечение, убийства, резня и так далее и тому подобное; от такого чтения клонит ко сну!