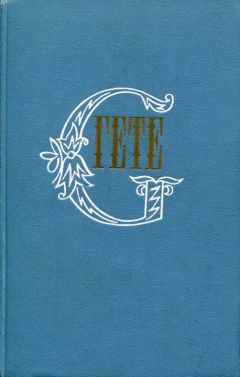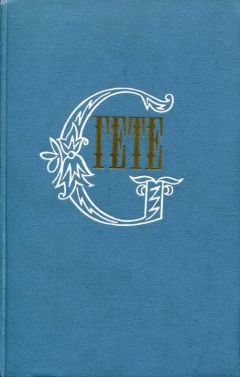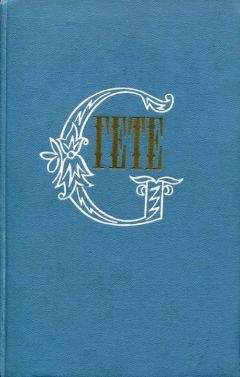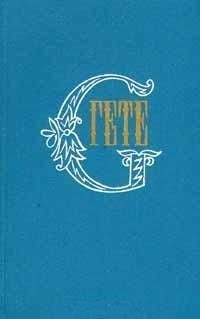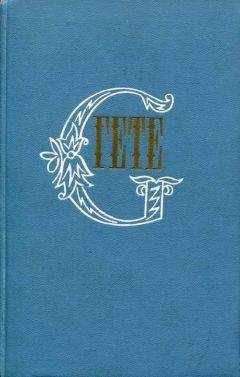Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой. Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся
В ответ я сказал, что не сомневаюсь ни в ее благородном происхождении, ни в том, что ее поведение безупречно. Я лишь сожалею, что необходимость заставляет ее прислуживать другим, между тем как она, по видимости, сама достойна везде находить слуг. Я добавил, что, несмотря на мое живейшее любопытство, не собираюсь ничего более выпытывать у нее, а желаю лишь ближе познакомиться с нею и через это убедиться, что она везде печется о своем добром имени не меньше, чем о добродетели. Эти слова, надо полагать, снова задели ее, так как в ответ она сказала, что если и скрывает, как ее зовут и где она родилась, то как раз ради доброго имени, ибо людская молва всегда основывается более на домыслах, чем на истине. Если она предлагает свои услуги, то предъявляет свидетельства тех семейств, которым помогала перед тем, и не скрывает, что не желала бы отвечать на вопросы об имени и родине. Так люди и должны принять решение, а в том, что жизнь ее невинна, положиться на небесный промысел либо на ее слово.
Речи такого рода не давали повода подозревать, что ведущая столь рискованную жизнь красавица не в своем уме. Господин де Реванн, не постигавший, как можно решиться бродить по свету, предположил, что девицу хотели выдать замуж вопреки ее склонности. Потом ему пришла мысль, не безнадежная ли это любовь; и вот, — удивительное и все же вполне обычное дело, — полагая, что она любит другого, он сам в нее влюбился и больше всего боялся, как бы она не ушла дальше. Он не мог отвести глаз от красивого лица, казавшегося еще краше среди зеленой полутени. Если когда-нибудь и вправду были нимфы, то ни одна из них, лежа на траве, не казалась столь прекрасной; и сама эта встреча была несколько романтической и оттого приобретала неодолимой для него очарование.
Поэтому господин де Реванн без долгих размышлений уговорил прекрасную незнакомку, чтобы она позволила проводить ее к нему в дом. Она отправляется с ним, не чинясь и выказав знание большого света. Ей подают угощение, она принимает его без жеманных церемоний, с прелестной благодарностью. Во время, оставшееся до обеда, ей показывают комнаты. Она отмечает только действительно заслуживающее внимания, будь то предмет меблировки, картина или удачное расположение покоев. Она обнаруживает библиотеку, она знает толк в хороших книгах и говорит о них со вкусом и без развязности. Ни пустой болтовни, ни смущения. За столом — та же благородная естественность манер, тот же приятный тон и любезная беседа. Покамест в ее речах все понятно и разумно, а характер у нее такой же приятный, как и наружность.
После обеда она показалась всем еще милее благодаря маленькой прихоти: с улыбкой обратившись к девице де Реванн, она сказала, что взяла себе за правило платить за обед работой и, так как денег у нее частенько не бывает, просить у хозяек иголку.
— Позвольте мне, — прибавила она, — вышить на ваших пяльцах цветок, чтобы впредь, взглянув на него, вы вспоминали бедную незнакомку.
Девица де Реванн отвечала, что у нее нет, к сожалению, пяльцев с натянутой тканью и потому придется отказаться от удовольствия полюбоваться искусством гостьи. Тогда странница обратила взгляд на клавесин.
— В этом случае я уплачу долг невесомой монетой, — сказала она, — ведь таков давний обычай бродячих певцов.
Она попробовала инструмент, сыграв две-три прелюдии и обнаружив весьма искусную руку. Никто более не сомневался, что она девица из благородного сословия и обладает всеми необходимыми в обществе талантами. Сперва игра ее была блестящей и бурной, потом звук стал более сдержанным и, наконец, полным печали, столь же глубокой, как та, которую заметили в ее глазах. Они увлажнились слезами, ее лицо изменилось, пальцы остановились; но сразу же вслед за тем она ошеломила всех, задорно и весело запев приятнейшим в мире голосом озорную песню. Так как позже появился повод полагать, что содержание шутливого романса прямо ее касается, то да простят мне, если я приведу его здесь.
Куда, приятель, иль откуда?
Чуть свет, уже ты на ногах!
В лесной часовне ль, чая чуда,
Мадонне каялся в грехах?
Прекрасный паж мой, неужели
Луга с туманом и росой
Теплее пуховой постели?
Бредешь нагой ты и босой!
Ах, верно! Только что покинул
Бедняга славную постель —
В тот миг, как сладкий жребий вынул,
Попал уже, казалось, в цель.
И вот — не выдумать позорней
Обмана! — мчится по лугам
Он резвого ручья проворней,
Нагой, бездомный, как Адам.
За парой райских яблок ловко
Прокрался в мельничный он сад.
Как может ангел стать чертовкой?
Дверями ль рая входят в ад?
Ночной прохладой жар объятий
Легко ль изгнаннику сменить,
Словами жалоб и проклятий
Прервав речей любовных нить?
«В ее очах под кровом ночи
Кто б мог предательство прочесть?
Сама она мне что есть мочи
Вручить свою спешила честь,
Уйти Амуру не давала,
Пока в окошке рассвело,
А между тем в уме держала,
Коварная, заране зло!
Любви моей вкушая сладость,
Она зовет внезапно мать —
И тотчас, возглашая радость,
Ворвалась родственников рать:
Быками наступают дяди,
За ними тетки по пятам,
Двоюродные братья сзади,
Дружок-батрак и тут и там.
Мать, уподобясь хищной птице,
Вот-вот взлетит под потолок,—
Все требуют, чтоб я девице
Вернул невинности цветок!
Цветок, что сорван был не мною,—
Вот лицемерия венец!
Взбешен я подлостью такою,
Такой бессмыслицей вконец!
Амуру первая забава
Снимать с запретного запрет,—
Ну, мог ли потерпеть он, право,
Чтоб цвел цветок шестнадцать лет!
Цветок, на мельнице взращенный,
Успели до меня сорвать,—
За что ж, одежд своих лишенный,
Я обесславлен, словно тать?!
Отвергнув ложе вероломной,—
Она и в этот даже час
Сияла красотой нескромной,
Как ослепительный алмаз,—
Я бурным гневом разразился
И, к выходу наметив путь,
В осенний холод погрузился,
Как в прорубь, лишь бы улизнуть.
Ах, деревенские девицы
Ничуть не лучше городских:
Грешат вовсю, а голубицы,
Поверить им, не чище их!
В такую стужу стать Адамом,
Чтоб после кашлять и чихать!
Нет, к черту! Лучше знатным дамам
Жар сердца буду отдавать!»
Бредя ручьем, так наш приятель
Обманщиц гневно обличал.
Посмейтесь же со мной! Создатель
Его за дело покарал:
Обманывал он сам бессчетно,
Неверность шуткой почитал
И с дочкой мельника охотно
Прекрасной даме изменял[1].
То, что она могла так забыться, было, конечно, подозрительно, и выходка гостьи могла бы показать всем, что голова ее не всегда остается светлой.
— Не знаю, — говорил мне господин де Реванн, — как это могло случиться, но ни одно из возможных в тот миг соображений нам даже в голову не пришло. Нас подкупила невыразимая прелесть, с какой она пела эти непристойности. В ее игре был задор, но была и сдержанность. Пальцы совершенно ей повиновались, а голос звучал поистине волшебно. Окончив петь, она приняла прежний невозмутимый вид, и мы сочли, что она просто хотела нас позабавить в послеобеденный час.
Вскорости она попросила разрешения вновь пуститься в дорогу, но по моему знаку сестра сказала, что ежели она не спешит и наш прием пришелся ей по душе, то для нас было бы праздником видеть ее у себя еще несколько дней. Я думал предложить ей какое-нибудь занятие, лишь бы она согласилась остаться. Но и в тот первый день, и назавтра мы только водили ее по усадьбе. Она была всегда ровна, неизменно оставаясь воплощением разумности и прелести. Ум у ней был такой тонкий и быстрый, нрав — такой мягкий, а память хранила так много прекрасного, что мы только на нее и глядели и нередко восхищались ею. При этом правила благородного обхождения были ей столь хорошо известны и она столь неукоснительно следовала им и с каждым из нас, и с немногими навещавшими нас друзьями, что мы понять не могли, как сочетать некоторые ее странности с таким безупречным воспитанием.
Я теперь не осмеливался предложить ей какую-нибудь службу по дому. Моя сестра, которой незнакомка весьма полюбилась, также считала своим долгом щадить ее чувствительность. Они вместе пеклись о домашних делах, и тут милое дитя нередко снисходило до простой работы, но справлялось и с любым делом, требующим высшей распорядительности и расчета.