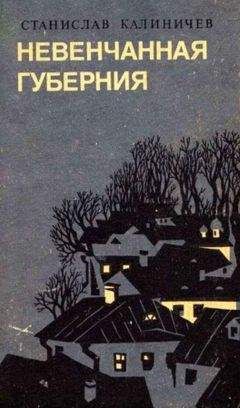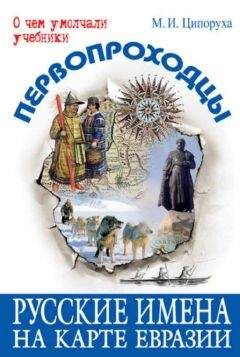Михаил Козаков - Полтора-Хама
Вместе же с военруком Стародубским читатель вновь очутился в квартире бывшего купца Сыроколотова и познакомится, наконец, с женихом Нюточки…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Слухи и сплетни; компрометирующий разговор военрука с извозчиком Давидом Сендером
О, как знал хорошо военрук Стародубский эти дыровские улицы, дыровских горожан, нравы их, привычки, повседневную жизнь!
Одно ухо было у городка, один глаз: скажешь что — всем слышно, моргнешь — и это заметят! Через несколько дней после своего приезда Платон Сергеевич не только знал уже свое причудливое прозвище, но и был в курсе всех местных дел и интересов.
И сейчас, скучая и бесцельно бродя по городу, он сам уже невольно присматривался и прислушивался к жизни этого — недавно еще чужого — городка, куда судьба забросила его, не указуя никакой другой цели, кроме служебной.
Глаз и ухо знали, что было здесь так.
Смолистым оскалом вгрызается июньское солнце в зачерствевшие буханки домов. А на траве, в садах и за прикрытыми ставнями в домах — потными, размякшими тушами лежали, прячась от солнца, люди. После раннего воскресного обеда — тяжела и тепла сытая отрыжка, смыкает глаза безделье и сон. Люди поочередно роются гребенками в взлохмаченных волосах друг у друга, ища там — в тупом азарте — таких же сытых насекомых и выскребывая жирную перхоть, люди пыхтят, пьют кефир и квас, наполняют вокруг себя воздух кислой пудовой испариной. И роются еще в осовелом, плешивом житьишке других, смежных — тех, что так же лежат и так же роются за забором.
Вот — рассказывают десятки языков о том, как агент жилотдела с неблагополучной еврейской фамилией Дреккер подал прошение об изменении ее, и как какой-то шутник из исполкома выдал ему паспорт с новой дарованной фамилией — Помёткин…
Рассказывают и о другом забытом приключении, случившемся с шестипудовым Яшей Опешкиным, завсегдатаем дыровского бильярда и человеком неизвестной профессии, обладателем самого грузного и выпуклого живота в городе. У Яши Опешкина было шуточное прозвище Щепка, а о животе его так и слыло в городе: «Плевать вперед Яша станет — на животе слюна застрянет».
Приятели споили Щепку и позабавились над ним: нарядили его, пьяного, в бабье платье, закутали в платок и отвезли в родильный дом. В ту пору рожала двойню Гликерия Онуфриевна, жена здешнего брандмейстера Саши-Спиртика; рожала в первый раз после революции, и весь родильный дом с нескрываемым трепетом и любопытством столпился у дверей палаты, не обращая внимания на толстую «роженицу», спавшую в приемной. Двух наследников принесла Гликерия Онуфриевна Саше-Спиртику — а об Яше-Щепке на следующий же день пошла по всему городу веселая песенка:
Не принесть Гликерии
Двоих в одну серию,
Если б заммамашей
Не был Щепка— Яша.
Будут потешаться и над беспартийным следователем Сеней Буйченко, по прозвищу — Свинья-Баран (а прозвище это еще с детских лет; диктовал учитель в прогимназии: «Звеня и подпрыгивая, тащилась борона», а Сеня усердно вписывал в тетрадку: «Свинья, подпрыгивая, тащила барана»)…
На Сеню Буйченко, рассказывали соседи, «лунатик напал»: будто, потеряв всякое сознание, Сеня бродил в легкой одежде по квартире своего хозяина, механика с мельницы. И, находясь в болезненном состоянии «лунатика», пошел Сеня не по карнизу, как водится в таких случаях, и не по двору, а зашел в комнату дочери механика Серафимы. И во изменение формы лунной болезни, при коей люди токмо без остановки всякой ходят, — накренил вдруг свой корпус над постелью (Серафимы, накренил манером обыкновенным, известным и другим людям, никогда «лунной» болезнью не страдавшим.
Закричала тут несведущая в этой болезни механикова дочь, прибежали на крик папаша и мамаша — и выпала сразу лунная порча из Свиньи-Барана. Голос появился — извинительный, неловкий:
— Извините, это у меня с детства: лунатик я несчастный… Лечиться мне надо.
— Лунатик? — вопрошал механик. — Лунатик?… Так на светило небесное и полезай, а не на дочь мою!
— Пардон, товарищ, — пятился Сеня, — лечиться буду.
— Прими на леченье! — рявкнул механик и приложил тяжелую ладонь к Сениной скуле.
— Стой! Уйду… — жалобил Сеня.
— И на дорогу прими! — упер папаша Серафимы с размаху свою босую ногу под селезенку «лунатика».
Будут потешаться над следователем Сеней Буйченко и будут расспрашивать его ехидно, почему целую неделю не сходит с его лица предательский синяк.
О чем только не говорят сейчас, о ком только не идут в этот ленивый, осоловелый час горячие пересуды!
В городе было: дерево, солнце, человечья одурь и юркая сплетнишка.
А по улицам так же лениво, осоловело движутся: инвалид с ведром мучного завара и с пачкой афишек-приказов, наклеивая их на заборах и на протухлых тумбах; бродяжная бездумная коза с отвислым выменем-сумкой, босой разносчик телеграмм — в исполком; из подворотни — петух и гусья пара, и у ворот — уставший, вспотевший продавец мороженного, нараспев предлагающий свое сладкое прохладное изделие.
И на певучий зазыв тянутся уже из домов, из садов, со стаканами, кружками, блюдцами: мясистая дебелая горожанка в нижней просвечивающейся юбке, не скрывающей смежения оборовевших ног, и с грудями, почти открытыми, не умещающимися под легким ситцем. («Аким, почему сегодня нет фисташкового?»); худая, угреватая мать семейства — с одним стаканом на пятерых детей («Аким, должок я вам завтра отдам. Нет, нет — вы не беспокойтесь: муж получит жалованье!»); мужчина в шлепанцах, с сонными пролежнями на помятом небритом лице и с захваченной почему-то из сада под мышку подушкой. («А комиссары берут у тебя, Аким? Наверно, больше всех жрут, хэ-хэ-хэ!»); детишки, жадно сующие в открытые банки мороженного свои невысморканные носы, и на сладкий запах — рой прожорливых мух…
После Акима — опять час-другой дремота, опять пересуды и уютная сплетнишка. А потом выкиснет и начнет свертываться солнечный блин — и люди целыми семьями, с полотенцами и простынями в руках, потянутся к речке -купаться.
Часом позже, мыча, откидывая во все стороны плотный вихор пыли, — запрудит улицу коровья «череда», ведомая так, несменяемо уже полстолетия, пастухом Егором, безошибочно знающим, чья корова — чей приплод; и навстречу каждой корове и телке выйдет, растворив ворота, деловитая хозяйка, приготовившая у сарая подойники; резвый грохот подымет на каменной площади здешняя пожарная команда с брандмейстером Сашей-Спиртиком во главе, любящим пугать дыровских горожан «пробными» пожарами; за пожарной командой промарширует по главной улице караульная рота, и все городские мальчишки, плетясь за ней, будут орать: «Все мы на бой пойдем»; выйдут «на гулянье» освежившиеся после купанья, сильно напудренные дыровские барышни…
Потом все это стечет с улиц к летнему саду наробраза, где бывший мировой судья Гриша Душечкин будет играть сегодня — почти не прибегая к гриму — «буржуазного фата», с розеткой в петличке и стеклышком в глазу, или будет дирижировать местным «симфоническим оркестром»…
Потом — ночь у людей: сытый, перекормленный боров. Утробная ночь…
— Скука… скука!… — нарочито вслух повторял свою мысль Платон Сергеевич; он сам уже прислушивался к своему громкому голосу, и ему было приятно оттого, что он хоть чем-нибудь мог нарушить вялый, ленивый покой улицы.
— Ску-ука, ску-ука, — нараспев, повышая голос на всю улицу, тянул он апатично, заглядывая через низенькие полуразрушенные заборчики, в тени которых валялись рыхлые, потные тела людей.
И вдруг он услышал за своей спиной:
— Это верно: скучно, конечно, вам тут, в городе, товарищ военрук. Прошу прощенья, значит, за свой разговор… Платон Сергеевич повернул голову в сторону говорившего: у заборчика, над которым, как зонт, свисали мохнатые густые ветви дерев, стоял, поглядывая на улицу, Давид Сендер. Была видна только плохо расчесанная голова его, упершаяся подбородком в верхнюю доску забора, и пальцы обеих рук, ухвативших эту доску; голубые глаза, прищурившись, выжидательно смотрели на Стародубского, а кривые короткие пальцы с темно-желтыми следами от махорки — которую всегда курил — медленно подымаясь и опускаясь, словно кивали военруку Стародубскому.
— А-а… — оживившись, протянул он и остановился у забора. — Что ты здесь делаешь?
— Живу тут, на траве валяюсь, бабское общество имею… — ухмылялся Сендер. — Не целый же день мне извозчиком на козлах сидеть. А не то… может, сегодня хотите ехать, так пожалуйста, мне это недолго…
— Куда сегодня?… — тихо спросил Платон Сергеевич, оглядываясь по сторонам. — Опять на хутор? Мне твои хуторские бабы, Давидка, уже надоели. А потом… прекратить надо поездки: понимаешь — некоторое неудобство может для меня случиться… И так уже, наверно, кто-нибудь сплетничает! А? Ведь говорят, Давидка? Говорят?