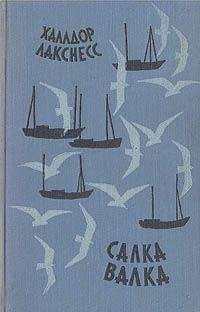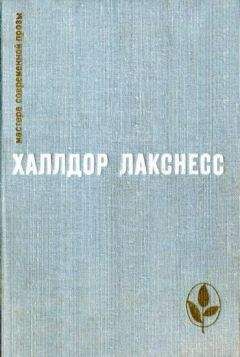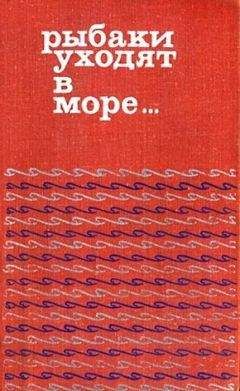Халлдор Лакснесс - Свет мира
Наступило лето, все работали на поле, дома оставалась одна матушка Камарилла, она стряпала на кухне и лишь изредка около полудня поднималась на чердак вздремнуть. В середине лета погода стояла особенно ясная. Через закрытое окно Оулавюр слышал щебетание птиц — открывать окно не разрешалось. Но когда он чувствовал себя в безопасности, он, несмотря на сильнейшую боль, слезал с постели и подкрадывался к окну. Он смотрел на тихую гладь фьорда, на отражавшиеся в воде горы. Блеск белых крыльев над Льоусавиком слепил ему глаза — это носились стаи морских ласточек. Он изумлялся, как безмятежна и первобытна жизнь в разгар лета, как величественно и спокойно ее движение. Ему казалось, что таким же вот должно быть вечное блаженство, если только оно существует. Потом лето прошло, и вечера опять стали темные.
Осенью старик Йоусеп часто бывал не в духе. Он недовольно счищал комья грязи со своей одежды или сердито обрывал стебельки мха, приставшие к чулкам, ворча что-то себе под нос, а братья, сидевшие за ужином тут же на чердаке, отпускали по его адресу язвительные замечания. Они злились на старика за то, что он, устав от их противоречивых приказаний, вышел из повиновения и начал все делать по-своему. В один из осенних дней, когда с гор пригнали овец, все небо обложило черными тучами и начался проливной дождь. Грязь сделалась непролазная. Оулавюр Каурасон от нечего делать занимался разглядыванием скошенного потолка. Может, думал он, глядя на стену, что в такой осенний день, когда все небо затянуто тучами и хлещет проливной дождь, а дороги развезло, не стоит особенно жалеть, что находишься вдали от земной жизни. Он даже не заметил, как в чердачном лазе показался старик, хотя был еще только полдень; старик насквозь промок и потерял где-то шляпу. С ним, очевидно, что-то случилось, с этим чистюлей, который всегда так заботился о своем холщовом костюме и не выносил, когда к его чулкам цеплялись стебельки мха. Один бок и даже щека у него были выпачканы в тине. Серебристые кудри — его краса и гордость — тоже были в тине. И он плакал.
Тот, кто хоть раз слышал, как плачет старик, никогда этого не забудет, и Оулавюр Каурасон, который только что думал, что он далек от земной жизни, оказался вдруг в самой ее гуще. Потрясенный, он прислушивался к слабому дребезжащему голосу старика. Ему и в голову не приходило, что старики умеют плакать, но в эту минуту он понял, что никто не плачет так горько, как они, слезы стариков — это единственно искренние слезы. Юноша приподнялся на локте, чтобы лучше видеть старика.
— Что с тобой, Йоусеп? — спросил он наконец. Старик еще не пришел в себя настолько, чтобы почиститься; давясь от рыданий, он ответил:
— Меня избили. Меня вываляли в грязи.
Ребенок сказал бы: «Они меня избили, они меня вываляли в грязи», — и назвал бы того, кто это сделал, но неудавшийся поэт, проживший сорок лет в собственном домишке и потерявший семерых детей на суше и на море, мог сказать только: «Меня избили. Меня вываляли в грязи». Он никого не обвинял. Та сила, что управляла его жизнью, была безымянной.
Да, этого опрятнейшего человека, этого старого поэта повалили в грязь возле хлева и жестоко избили. Юноша натянул на голову одеяло, не в силах сдержать дрожь. Он сразу понял, что ему не дано утешить старика. Можно обидеть ребенка и оправдаться перед самим собой, перед Богом и перед людьми, ведь жизнь сама все оправдывает и примиряет молодость со всем. Но ничто не может искупить несправедливость, причиняемую в Исландии старым людям. Когда Оулавюр снова выглянул из-под одеяла, старика на чердаке уже не было, он приходил только затем, чтобы забрать свой сверток…
Вечером мальчик услышал разговоры о том, что старик ушел, братья чертыхались и бранились на чем свет стоит, матушка Камарилла говорила, что теперь им остается только утопить в море лучшую корову, раз уж они прогнали с хутора единственного человека, приносившего хутору деньги; Магнина в гневе долго пыхтела и сопела, а потом наконец заявила, что лучше было бы вышвырнуть за дверь кое-кого, кто действительно является обузой для семьи, а не этого старика. Кое-кого — сказала она. И разговор пошел в тех выражениях, которые были в обычае на хуторе.
На другое утро горы от вершин до самого моря оказались покрытыми снегом, дул сильный ветер, шел снег. В этот день на хутор явился приходский староста. Он вел за собой лошадь, на которой сидел старик Йоусеп. Накануне вечером старик пришел к нему искать защиты и просил, чтобы его отправили на другой хутор, но староста, к сожалению, не знал места лучше того, откуда старик сбежал. Поскольку надвигалась ночь, он предложил своему престарелому гостю остаться у него, а утром посадил его на лошадь и привез туда, где ему полагалось быть. У хозяйки хутора Камариллы нашлось немного водки. Старосте для его шхуны на зиму требовались сильные парни. Ради такого важного гостя Магнина умылась и причесалась. Снизу из гостиной доносились громкие оживленные голоса.
Старик с трудом поднялся на чердак и лег. Когда он накануне пришел к старосте, он был сильно разгорячен после долгой ходьбы, но постель у этого представителя власти была чересчур холодна, и старик простудился. Если кому-то могло показаться странным, что староста собственноручно вел под уздцы лошадь, на которой сидел старик, то сделал он это лишь потому, что старик так дрожал, что не мог сам держать в руках уздечку. Пришлось позвать вдову Каритас, чтобы она сняла со старика его холщовый костюм. Потом старик натянул на себя одеяло и отвернулся к стене. Больные старики не доставляют много хлопот. Они умирают, даже не шевельнувшись. На свете нет людей более одиноких, чем старики. Нет смысла ухаживать за больными стариками или пытаться помочь им. В этом они похожи на животных, они умирают такими же одинокими, как животные. Вот и этот чистоплотный старик, владевший лишь несколькими тетрадками в узелке, потерявший семерых детей на суше и на море и страстно мечтавший стать скальдом, — каким же покинутым он умер! Никто ничего не сделал для него в эти последние дни перед смертью. А ведь о нем даже жалели, потому что ни одна скотина на хуторе не приносила столько дохода, сколько он. За него платили наличными более ста крон в год.
Не надо думать, что все было, как в сагах, и старик тут же умер; все было не так, он умер не сразу, он прожил еще много дней, хотя он уже и не пытался читать стихи и замысловатые кеннинги. Но как невероятно мало он причинял беспокойства в эти последние дни! И как невероятно мало было сделано для него в эти дни! Лишь один О. Каурасон Льоусвикинг время от времени приподнимался на локте и смотрел на него.
Иногда старик тоже пытался приподняться и произносил в бреду несколько слов. Обычно он спрашивал, не почитает ли ему Гвюдмундур Гримссон Груннвикинг по случаю чудесной погоды немного из своей «Истории жителей Китая» или какую-нибудь коротенькую эпитафию.
— Йоусеп, милый, может, выпьешь глоток холодной воды? — предлагал ему О. Каурасон Льоусвикинг.
Через некоторое время старик попробовал поднять голову и сказал:
— Послушай, Гвюдмундур, хочешь, я пойду вместо тебя чистить коровник, чтобы тебе не отрываться от истории о семи мудрецах?
— Думай лучше о своей покойной жене и детях, царство им небесное, чем об этом негодяе Гвюдмундуре, который никогда в жизни не работал ни на себя, ни на других, — сказала хозяйка хутора Камарилла.
Но старик, видимо, считал, что те, о ком говорила хозяйка, как-нибудь обойдутся и без него, наконец-то он обрел своего Гвюдмундура, голова его снова тяжело откинулась на подушку.
Было воскресенье. Два дня уже старик Йоусеп лежал, почти не двигаясь и ничего не говоря. Хозяйка хутора взяла молитвенник и начала читать воскресную молитву: «И сказал Иисус ученикам своим…» Но вот молитва окончилась. Когда пропели последний псалом, старый Йоусеп попытался подняться на постели. На его лице появилось предсмертное выражение, светлое и умиротворенное, над ним уже светило солнце иного мира, и он вновь владел своим языком, который все последние дни был скован, его слова можно было понять без труда:
— Гвюдмундур Гримссон Груннвикинг — великий скальд!
Больше он ничего не сказал. Это были его последние слова. Через несколько минут он умер. Хозяйка хутора Камарилла стояла у его постели и смотрела, как он умирает.
— Вот он и сказал свое последнее слово, — заметила она. — Каждый из нас скажет свое последнее слово. — И она закрыла покойнику глаза. — Хорошая погода, дождя нет. — И она поднесла к глазам край фартука, как того требовал обычай.
Так соседом О. Каурасона Льоусвикинга стал покойник. Раньше больного юношу охватывал страх перед смертью. Теперь он удивлялся, какой мирной, простой и естественной оказалась эта гостья, вроде ничего и не произошло, но все вокруг стало каким-то торжественным. Последние слова старого Йоусепа непрерывно звучали в ушах юноши: «Гвюдмундур Гримссон Груннвикинг…»; видно, смерть такая знатная гостья, что при ее приближении человек невольно произносит то имя, которое при жизни для него было дороже всего. Навсегда запомнил юноша эту картину: умирающий старик, матушка Камарилла, стоящая у его постели, и имя Гвюдмундура Гримссона Груннвикинга, столь ненавистное и столь любимое, прозвеневшее в воздухе над ними. С незапамятных времен вокруг исландских скальдов велась борьба. Одни всю жизнь проклинали их, другие умирали с их именами на устах.