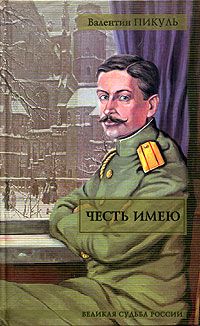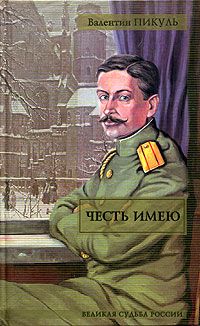Альфонс Доде - Письма с мельницы
Почти все они семейные, на берегу у них жена и дети, а они месяцами в отсутствии, плавают вдоль опасного побережья. Кормятся сухарями да диким луком. Ни вина, ни мяса, потому что и мясо и вино стоят дорого, а они получают только пятьсот франков в год. Пятьсот франков в год! Сами понимаете, какая у них дома, на берегу, конура, какие босоногие ребятишки!.. Нужды нет! У всех у них довольные лица. На корме перед рубкой стоит большой бак с дождевой водой, из которого пьет команда. Я отлично помню, как, допив последний глоток, каждый матрос опрокидывал кружку и удовлетворенно покрякивал с блаженным выражением,— то и смешило и трогало.
Самым веселым, самым довольным из всех был уроженец Бонифаччо, загорелый и коренастый, по имени Паломбо. Он вечно пел, даже в бурю. Когда вздымались волны, когда с нависшего, потемневшего неба падала крупа и когда все на палубе были начеку, не отпускали шкота, готовясь к шквалу, тут вдруг, среди полной тишины и всеобщей напряженности, спокойный голос Паломбо выводил:
Нет, нет, сеньор!
Страшен позор…
Лизетта просту-ушка
Век будет пасту-ушка.
И пусть налетает шквал, пусть стонет в снастях ветер, пусть треплет и заливает судно — песня не прерывается; словно чайка, качается она на гребне волны. Порой аккомпанемент ветра делался слишком громким, слов уже нельзя разобрать, но после каждого вала в шуме воды, сбегавшей с палубы, слышится веселый припев:
Лизетта просту-ушка
Век будет пасту-ушка.
И вот как-то, когда ветер и дождь особенно злились, я не услышал его голоса. Это было так необычно, что я высунул голову из рубки:
— Эй, Паломбо! Что ж пения не слышно?
Паломбо не ответил. Он лежал неподвижно под скамьей. Я подошел к нему. У него зуб на зуб не попадал, его трясла лихорадка.
— У него пунтура,— с унылым видом сказали его товарищи.
Они называют пунтурой колотье в боку, плеврит. Безграничное свинцовое небо, вымокшее судно, больной в жару, закутанный в старый резиновый плащ, блестевший под дождем, как тюленья кожа,— что могло быть мрачнее? Вскоре от холода, ветра, качки ему стало хуже. Начался бред. Надо было приставать к берегу.
Положив много времени и труда, к вечеру вошли мы в маленькую бухту, пустынную и безмолвную, оживленную только одинокими чайками, кружившимися над ней. Вдоль всего берега вздымались крутые скалы, виднелись непролазные чащи кустарников, темно-зеленые, вечнозеленые. Внизу, у самой воды, белый домик с серыми ставнями — таможенный пост. Среди такой пустыни это казенное строение с номером, словно форменная фуражка с кокардой, производило мрачное впечатление. Сюда-то и внесли бедного Паломбо. Печальное пристанище для больного! Таможенник с женой и детьми обедали у печки. У всех лица были исхудалые, желтые, глаза большие, ввалившиеся от лихорадки. Мать, еще молодая, с грудным ребенком на руках, говоря с нами, дрожала от озноба.
— Ужасный пост,— шепотом сказал мне инспектор.— Приходится каждые два года сменять здешних таможенников. Их изнуряет болотная лихорадка…
Однако надо было раздобыть врача. Врач был только в Сартене, то есть в шести — восьми милях оттуда. Как быть? Матросы выбились из сил; послать кого-либо из детей нельзя,— уж очень далеко. Тогда женщина, выглянув за дверь, крикнула:
— Чекко!.. Чекко!
В дом вошел рослый, складный малый, типичный браконьер, или бандитто, в коричневом войлочном колпаке и в пелоне из козьей шерсти. Когда мы причалили, я уже заметил его: он сидел на пороге, с красной трубкой в зубах и ружьем между колен. Но при нашем приближении он почему-то скрылся. Может быть, он думал, что у нас на борту жандармы. Когда он вошел, жена таможенника слегка покраснела.
— Это мой двоюродный брат…— сказала она.— Можете быть спокойны, он в зарослях не заплутается.
Затем она поговорила с ним шепотом, указав на больного. Мужчина поклонился, не сказав ни слова. Выйдя за порог, он свистнул собаку и ушел с ружьем на плече, прыгая с камня на камень.
А дети, испуганные присутствием инспектора, быстро справлялись с обедом, состоявшим из каштанов и брумо (творога). И, как всегда, запивали обед водой, неизменной водой. А ведь глоток вина был бы не вреден этим малышам. Эх, нужда горькая! Наконец мать пошла их укладывать. Отец засветил фонарь и отправился осматривать берег, а мы уселись у огня, около больного, метавшегося на своей убогой постели, словно он был еще в открытом море, словно его качали волны. Чтоб немного облегчить его страдания, мы грели камни и кирпичи и клали их ему под бок. Раз-другой, когда я подходил к его кровати, больной узнал меня и в знак благодарности с трудом протянул мне руку, широкую, заскорузлую руку, горячую, как те кирпичи, что мы грели на огне…
Печальная ночь! На дворе в сгустившемся мраке разбушевалась непогода — шум, грохот, пенящиеся волны, борьба скал и воды. Порой ветер с моря прорывался в бухту и охватывал наш дом. Это чувствовалось по внезапной вспышке пламени, вдруг озарявшего лица матросов, собравшихся возле печки и глядевших на огонь с тем спокойствием, которое дает привычка к безбрежным просторам и однообразным горизонтам. Время от времени Паломбо тихо стонал. Тогда взоры всех обращались к темному углу, где умирал их несчастный товарищ, вдали от родных, без помощи. Сердце сжималось, слышались тяжелые вздохи. Вот и все, что могло исторгнуть у этих тружеников моря, терпеливых и кротких, сознание их горькой доли. Ни возмущения, ни стачек. Только вздох!.. Впрочем, я ошибаюсь. Проходя мимо меня, чтобы подбросить хворосту в огонь, один из них сказал мне упавшим голосом:
— Сами видите, сударь: наше дело нелегкое!..
Кюкюньянский кюре
Каждый год на Сретение провансальские поэты выпускают в Авиньоне веселую книжку с красивыми стихами и очаровательными сказками. Только что я получил книжку этого года и нашел в ней прелестное фабльо[18]; чуточку сократив, я попытаюсь вам его перевести… Ну, парижане, приготовьтесь. На этот раз вас угостят изысканным провансальским блюдом…
Аббат Мартен был кюре… в Кюкюньяне.
Он был мягок, как хлеб, чист, как золото, и любил отеческой любовью своих кюкюньянцев. Для него Кюкюньян был бы земным раем, если бы кюкюньянцы радовали его немножко больше. Но увы! Пауки плели паутину в исповедальне, а в светлое христово воскресенье облатки лежали нетронутыми на дне дароносицы. Добрый пастырь исстрадался душой и молил бога смилостивиться и не дать ему умереть, не собрав в лоно церкви свою разбредшуюся паству.
И вы сейчас убедитесь, что бог внял его мольбам.
Однажды, в воскресный день, после чтения евангелия, аббат Мартен взошел на кафедру.
— Братие! — сказал он.— Хотите верьте, хотите нет: прошлой ночью я, недостойный грешник, очутился у врат рая.
Я постучался, и апостол Петр отворил мне!
— Ах, это вы, мой милый господин Мартен? — сказал он.— Каким ветром?.. Чем могу быть полезен?
— Святой апостол Петр! Вы ведаете гроссбухом и ключами. Не скажете ли, если только не сочтете это праздным любопытством, сколько кюкюньянцев у вас в раю?
— Я ни в чем не могу вам отказать, господин Мартен. Присядьте, давайте вместе разберемся.
Апостол Петр взял свой гроссбух, открыл его, надел очки.
— Проверим… Стало быть, кюкюньянцы. Кю… кю… Кюкюньян. Так, нашел… Господин Мартен, голубчик! Страница-то чистая! Ни души… У нас кюкюньянцев не больше, чем рыбьих костей в индюшке.
— Как! Здесь нет ни одного кюкюньянца? Ни одного? Не может быть! Поглядите как следует…
— Ни одного, праведник божий. Поглядите сами, если думаете, что я шучу.
— Ах, я несчастный!
Я затрясся и, сложив руки, взмолился о пощаде. Тогда апостол Петр сказал:
— Поверьте мне, господин Мартен: не стоит так близко принимать это к сердцу, а то как бы с вами удар не приключился. В конце концов вы тут ни при чем. Видите ли, я уверен, что ваши кюкюньянцы постятся положенные сорок дней в чистилище.
— Смилуйтесь, святой Петр! Дайте мне возможность хоть повидать и утешить их.
— Пожалуйста, голубчик… Вот, обуйте поскорей эти сандалии,— дорога туда неважная… Вот так… Теперь ступайте прямо, куда глаза глядят. Видите там, вдали, за углом? Там серебряная дверь, вся усеянная черными крестами… По правую руку… Постучитесь, вам отворят… Прощайте! Будьте здоровы и не унывайте.
Уж я шел, шел!.. Ну и дорога! Только вспомнишь, мурашки по коже бегают. Узенькая тропка, вся в колючках, усеянная сверкающими карбункулами и шипящими змеями, привела меня как раз к серебряной двери.
— Тук! Тук!
— Кто стучится? — спросил голос хриплый и скорбный.
— Кюре из Кюкюньяна!
— Откуда?
— Из Кюкюньяна.
— А!.. Войдите.
Я вошел. Прекрасный ангел с черными, как ночь, крыльями, в сияющих, как день, ризах, с бриллиантовым ключом на поясе, писал, скрипя пером, в большой книге, еще объемистей, чем у апостола Петра…