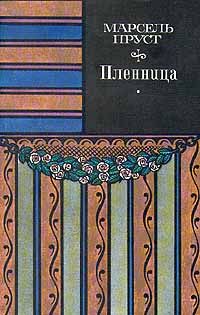Марсель Пруст - Пленница
По всей вероятности Морель, пользуясь над девушкой властью, которую давали ему его прелести, передал ей замечание барона, принятое им на свой счет, потому что выражение «угостить чайком» исчезло из лавочки жилетника столь же бесследно, как исчезает из салона близкий друг дома, которого принимали каждый день, но с которым по той или другой причине хозяева поссорились или прячут его и видятся с ним в другом месте. Г. де Шарлюс был удовлетворен исчезновением «угостить чайком». Он видел в нем доказательство своего влияния на Мореля и удаление единственного пятнышка, маравшего совершенство девушки. Кроме того, подобно всем представителям своей породы, будучи совершенно искренним другом Мореля и его невесты, горячим сторонником их брака, он был в то же время очень падок устраивать по своему усмотрению более или менее безобидные ссоры, на которые взирал со стороны и с высоты таким же олимпийцем, как его брат.
Морель сказал г-ну де Шарлюс, что любит племянницу Жюпьена, хочет жениться на ней, и барону приятно было сопровождать своего юного друга во время визитов к Жюпьену, где он играл роль будущего посаженного отца, тароватого и снисходительного. Ничто так его не радовало.
Я лично думаю, что «угощать чайком» исходило от самого Мореля и что в любовном ослеплении юная портниха усвоила выражение обожаемого ею существа, звучавшее резким диссонансом на фоне изящной речи молодой девушки. Благодаря этой речи, милым манерам, так мило гармонировавшим с ее внешностью, и покровительству г-на де Шарлюс, многие ее заказчицы принимали ее дружески, приглашали обедать, вводили в круг своих знакомых, хотя девушка принимала приглашения только с позволения барона де Шарлюс и только в те вечера, когда это было для нее удобно. «Портниха в свете?» — скажут мне читатели, какая небылица! Если пораздумать, не менее невероятны были полуночный визит ко мне Альбертины, два года назад, и ее теперешняя жизнь со мной. Невероятны они были бы, может быть, со стороны другой, но никак не со стороны Альбертины, круглой сироты, которая вела столь свободный образ жизни, что сначала я принял ее в Бальбеке за любовницу велосипедиста-гонщика, и самой близкой родственницей которой была г-жа Бонтан, уже во время визитов к г-же Сван восхищавшаяся только дурными качествами своей племянницы, а теперь закрывавшая глаза на ее поведение, особенно если оно могло помочь сбыть ее с рук, посодействовав ее богатому браку, при котором немного денежек перепадет и на долю тетки (в самом высшем свете сплошь и рядом бывает, что очень знатные и очень бедные матери, если им удалось найти богатых жен для своих сыновей, не стесняются жить на содержании молодых супругов, принимают меха, автомобиль и деньги от нелюбимых невесток, которых они вводят в свет).
Наступит может быть день, когда портнихи — и я не нахожу в этом ничего шокирующего — станут бывать в свете. Впрочем, племянница Жюпьена, составляя исключение, не дает еще права ни для каких прогнозов, одна ласточка не делает весны. Во всяком случае, если весьма скромное положение племянницы Жюпьена шокировало некоторых лиц, то к числу этих лиц не принадлежал Морель, ибо в известных отношениях глупость его была так велика, что он не только находил «глуповатой» эту девушку, которая была в тысячу раз умнее его, вероятно потому лишь, что она любила его, но считал также принимавших ее солидных особ, знакомством с которыми она не чванилась, авантюристками, переряженными портнихами, игравшими роль светских дам. Разумеется, это были не Германты, ни даже люди с ними знакомые, а богатые, элегантные буржуа, державшиеся достаточно свободных взглядов, чтобы не находить никакого бесчестья, принимая у себя портниху, но также и достаточно раболепные, чтобы испытывать известное удовлетворение от покровительства девушке, которую ежедневно посещал с самыми чистыми намерениями его светлость барон де Шарлюс.
Ничто так не радовало барона, как мысль об этом браке, ибо он думал, что тогда Мореля у него не отнимут. По-видимому, племянница Жюпьена, будучи еще почти ребенком, совершила «грех». И г. де Шарлюс, несмотря на постоянные расхваливания ее Морелю, ничуть не был бы раздосадован, если бы друг его оказался посвященным в тайну ее греха и пришел от этого в ярость и если бы между молодыми был посеян таким образом раздор. Ибо, несмотря на свою чудовищную злобность, г. де Шарлюс был похож на огромное множество тех добрых людей, которые расточают похвалы тому или другому из своих знакомых, чтобы показать собственную доброту, но как огня испугались бы столь редко произносимых благодетельных слов, содействующих воцарению мира. Тем не менее барон остерегался всякого нескромного намека по двум следующим причинам: «Если я расскажу ему, — думал он, — что его невеста не безупречна, его самолюбие будет уязвлено, он рассердится на меня. А кто мне поручится, что он не влюблен в нее? Если же я не скажу ничего, этот соломенный костер быстро потухнет, я стану управлять их отношениями, как мне вздумается, он будет любить ее только в той степени, в какой мне будет желательно. Если я расскажу ему старый грех его суженой, то кто мне поручится, что мой Шарли уже не настолько влюблен, чтобы воспылать ревностью? Тогда я сам буду виновником превращения незначительного флирта, которым мы распоряжаемся, как нам угодно, в большую любовь, которой управлять трудно». По двум этим причинам г. де Шарлюс хранил молчание, имевшее только видимость сдержанности, хотя и его можно было поставить в заслугу барону, так как молчание есть вещь почти непосильная для подобных ему людей.
Впрочем, племянница Жюпьена была прелестна и всецело удовлетворяла эстетический вкус, который у г-на де Шарлюс мог быть к женщинам, так что ему хотелось иметь сотни ее фотографий. Барон не был таким глупцом, как Морель, и с удовольствием узнавал имена принимавших ее светских дам, которых его общественный нюх помещал довольно высоко, но (желая сохранить власть) он остерегался говорить об этом Шарли, который будучи в данном отношении полнейшим невеждой, продолжал думать, что кроме «скрипичного класса» и Вердюренов существовали одни только Германты да несколько почти королевских фамилий, перечисленных бароном, а все остальное — «подонки», «сброд». Шарли перенял эти выражения у г-на де Шарлюс буквально.
Г. де Шарлюс радовался женитьбе скрипача на молодой девушке еще и потому, что рассчитывал увидеть в племяннице Жюпьена своего рода продолжение личности Мореля, а следовательно также власти барона над Морелем, знания Мореля. «Обманывать» в супружеском смысле будущую жену скрипача, — г-ну де Шарлюс ни на секунду не пришло бы в голову увидеть в этом что-либо зазорное. Но иметь под рукой «молодую чету», которой можно руководить, чувствовать себя страшным и всемогущим покровителем жены Мореля, которая, рассматривая барона как божество, показывала бы таким образом, что дорогой Морель внедрил в нее эту мысль, и содержала бы в себе, следовательно, некоторую частицу Мореля, было приятно г-ну де Шарлюс, это вносило разнообразие в характер его господства и рождало в его «собственности», в Мореле, еще одно существо, супруга, то есть придавало ему нечто иное, новое, нечто такое, что было бы занятно любить в нем. Это господство стало бы теперь, может быть, большим, чем оно было когда-нибудь. Ведь если Морель, одинокий, голый, так сказать, часто оказывал сопротивление барону, будучи вполне уверен, что вскоре вновь приобретет его благосклонность, то, став человеком женатым, он будет больше бояться за свое хозяйство, свою квартиру, свое будущее и предоставит прихотям г-на де Шарлюс больше простора, больше возможностей. Все это и при случае даже, в дни, когда ему будет скучно, разжигание войны между супругами (барон никогда не гнушался батальными картинами) нравилось г-ну де Шарлюс. Меньше, однако, чем мысль о зависимости от него, в которой будет жить молодая чета. Любовь г-на де Шарлюс к Морелю вновь приобретала сладостную новизну, когда он говорил себе: его жена будет также моей, поскольку сам он мой, они не будут делать ничего такого, что могло бы огорчить меня, будут повиноваться моим капризам, и таким образом он станет (до сих пор мне неизвестным) символом того, что уже почти забыто мной и к чему так чувствительно мое сердце — того, что в глазах всего света, в глазах людей, которые увидят, как я им покровительствую, их устраиваю, в моих собственных глазах, Морель — мой. Это наглядное для него и для других доказательство доставляло г-ну де Шарлюс больше удовольствия, чем все прочее. Ибо обладание тем, кого любишь, есть радость еще большая, чем любовь. Очень часто люди, скрывающие это обладание, поступают так только из страха, чтобы любимый предмет не был у них похищен. Но вследствие этого благоразумного молчания счастье их убавляется.
Читатель помнит, может быть, как Морель рассказал когда-то барону о своем заветном желании соблазнить какую-нибудь девушку, в частности племянницу Жюпьена, и о том, что для успеха своего замысла он пообещает ей жениться, а, изнасиловав, «навострит лыжи» и удерет подальше; но, слыша признания Мореля в любви к племяннице Жюпьена, г. де Шарлюс позабыл об этом рассказе. Больше того: о нем забыл может быть сам Морель. Быть может, существовало огромное расстояние между натурой Мореля, — той, в которой он цинично признавался, пожалуй, даже искусно преувеличивая, — и минутой, когда она в нем снова взяла бы верх. Чем больше он сближался с девушкой, тем больше она ему нравилась, он начинал любить ее. Он так мало знал себя, что воображал, будто полюбил ее взаправду и даже, может быть, навсегда. Его первоначальное желание, его преступный замысел продолжали существовать, но на них напластовалось столько инородных чувств, что мы бы не вправе были подозревать скрипача в неискренности, если бы он стал отрицать, что это порочное желание являлось истинным мотивом его поступка. Был, впрочем, краткий период, когда, не сознавая этого отчетливо, он считал женитьбу на портнихе необходимой. Морель мучился в то время довольно сильными судорогами правой руки и принужден был считаться с возможностью бросить скрипку. Так как во всем, что не касалось его искусства, он отличался непостижимой ленью, то перед ним повелительно вставала необходимость жить на чьем-либо содержании, и Морель предпочитал, чтобы его содержала племянница Жюпьена, а не г. де Шарлюс: эта комбинация предоставляла ему больше свободы, а также больший выбор женщин, как из числа всегда новых мастериц, которых он поручил бы племяннице Жюпьена совращать для него, так и из числа красивых богатых дам, которым он заставил бы ее продаваться. Возможность отказа его будущей жены от этих угождений и проявление ею строптивости ни на минуту не входили в расчеты Мореля. Впрочем, расчеты эти отошли на второй план и уступили место чистой любви, как только судороги прекратились. Довольно будет заработка от концертов да жалованья г-на де Шарлюс, требования которого несомненно умерятся после того, как он, Морель, женится на девушке. Свадьба была делом спешным по причине любви Мореля и в интересах его свободы. Он попросил у Жюпьена руки племянницы, Жюпьен же посоветовался с ней самой. Но в этом не было надобности. Страсть девушки к скрипачу струилась из нее, как ее волосы, когда они бывали распущены, как радость ее лучистых взоров. Почти все, что бывало приятно или выгодно Морелю, вызывало у него волнение, трогательные слова, иногда даже слезы. Поэтому он вполне искренно — если подобное слово может быть приложимо к Морелю — обращался к племяннице Жюпьена с чувствительными речами (чувствительными бывают также речи стольких молодых аристократов, желающих бездельной жизни, которые они произносят какой-нибудь прелестной девушке из очень богатой буржуазии), — речами по существу столь же беззастенчиво низкими, как и те, что он держал г-ну де Шарлюс на тему об обольщении, о лишении девственности. Однако добродетельный энтузиазм к особе, доставлявшей ему удовольствие, и принятые им на себя торжественные обязательства по отношению к ней имели у Мореля и оборотную сторону, как только известная особа переставала доставлять ему удовольствие или же обязательство выполнить данные обещания начинало казаться ему неприятным, эта особа тотчас возбуждала в Мореле антипатию, которую он старательно оправдывал в собственных глазах; после нескольких неврастенических припадков, когда его нервная система вновь начинала функционировать нормально, антипатия эта позволяла ему проникнуться убеждением, будто он, даже рассматривая вещи с чисто добродетельной точки зрения, свободен от всяких обязательств. Так, в конце своего пребывания в Бальбеке он растратил, не знаю на что, все свои деньги и, не смея сказать об этом г-ну де Шарлюс, искал человека, у которого можно было бы взять в долг. Он знал от своего отца (который, однако, строго-настрого запретил ему делаться «попрошайкой»), что в подобных случаях принято писать человеку, к которому мы хотим обратиться: «нам нужно поговорить с ним о делах» и «мы просим назначить нам деловое свидание». Эта магическая формула так восхищала Мореля, что он, мне кажется, охотно растратил бы свои деньги только ради удовольствия попросить свидания «для делового разговора». С течением времени он убедился, что формула лишена той чудодейственной силы, которую он ей приписывал. Он констатировал, что люди, к которым он никогда бы не обратился, не веруй он в формулу, не торопились отвечать ему через пять минут по получении письма, выражающего желание «поговорить о делах». Если проходило полдня, а Морель все не получал ответа, у него и мысли не возникало, что даже в самом благоприятном случае человек, к которому он обращался с просьбой, может быть, еще не возвратился домой или должен был раньше ответить на другие письма, не говоря уже о том, что он мог в это время куда-нибудь уехать, быть больным и т. п. Если при счастливом стечении обстоятельств Морель получал свидание на другой день утром, его первыми словами было: «Я был крайне удивлен неполучением ответа, я боялся, уж не случилось ли чего, между тем здоровье ваше слава богу и т. д».. Вот почему в Бальбеке, не сообщая, что ему нужно поговорить с ним о «деле», Морель попросил меня познакомить его с тем Блоком, по отношению к которому он вел себя так неучтиво неделю назад в поезде. Блок без всяких колебаний одолжил ему или вернее уговорил одолжить г-на Ниссима Бернара — 5000 франков. С этого дня Морель стал обожать Блока. Он спрашивал со слезами на глазах, как ему отблагодарить человека, спасшего его жизнь. В конце концов, я взялся выхлопотать у г-на де Шарлюс для Мореля 1000 франков ежемесячно, с тем чтобы Морель тотчас же вручал эти деньги Блоку и таким образом сравнительно скоро с ним расквитался. В первый месяц Морель, находившийся еще под свежим впечатлением доброты Блока, немедленно отослал ему 1000 франков, но потом должно быть решил, что остальные 4000 можно употребить гораздо приятнее, ибо начал говорить много гадостей о Блоке. Один вид последнего способен был внушить ему черные мысли, и когда Блок, позабыв, сколько в точности им было дано Морелю в долг, требовал от него 3500 франков вместо 4000, так что скрипач выгадывал от этой забывчивости 500 франков, то Морель имел дерзость ответить, что после подобной лжи он не только не заплатит больше ни сантима, но его заимодавец должен благодарить Бога, если он не подаст на него в суд. Когда он произносил эти слова, глаза его сверкали. Он не удовольствовался, далее, заявлением, что Блок и г. Ниссим Бернар не вправе сердиться на него, но прибавил, что они должны почитать счастьем, если сам он не рассердился на них. Наконец, когда г. Ниссим Бернар сказал будто бы, что Тибо играет ничуть не хуже Мореля, этот последний решил привлечь банкира к ответственности, потому что подобное заявление способно было причинить ему материальный ущерб; с тех пор — так как нет больше справедливости во Франции, особенно со стороны евреев (антисемитизм был у Мореля естественным следствием дачи ему в долг 5000 франков евреем), — он не выходил больше из дому без заряженного револьвера. Подобное не нервное состояние сменило вскоре порывы нежности у Мореля в его отношениях к племяннице Жюпьена. Правда, известную роль в этой перемене сыграл, сам, может быть, не подозревая о том, г. де Шарлюс, который часто заявлял, не придавая значения ни единому своему слову, просто с целью подразнить молодых, что после свадьбы он не увидит их больше и предоставит им летать на собственных крыльях. Сама по себе мысль эта не в силах была отвлечь Мореля от его невесты; однако, засев в уме скрипача, она легко могла в один прекрасный день сочетаться с другими тяготеющими к ней мыслями, способными, после смешения с нею, стать мощным фактором разрыва.