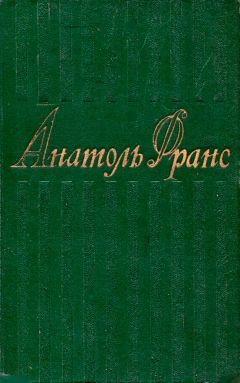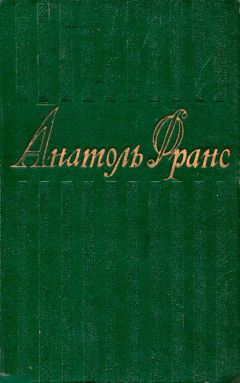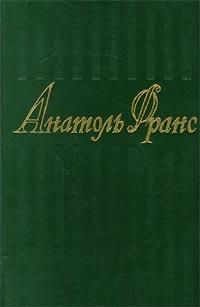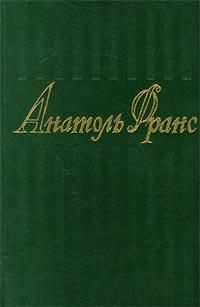Анатоль Франс - 1. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга моего друга.
Я был в ту пору необычайно смешлив, — это свойство полностью проявилось, когда я услыхал последние слова Деция Муса, и, когда г-н Шотар, дав нам самый основательный повод для смеха, заявил, что смеяться без причины глупо, я уткнулся носом в словарь и уже ничего не помнил. Кому в пятнадцать лет не случалось неудержимо смеяться под градом нотаций, тот не изведал одного из величайших наслаждений.
Однако не следует думать, что в классе я тратил время только на пустяки. На свой лад я был неплохим маленьким ученым классиком. Я глубоко чувствовал очарование и благородство, таившиеся в том, что так удачно окрестили «изящной словесностью»,
Я уже и тогда любил прекрасную латынь и прекрасный французский язык и не утратил этой любви и по сей день, несмотря на советы и примеры моих более удачливых современников. Со мной случилось то, что обычно случается с людьми, когда их убеждения презирают. Я гордился тем, что, возможно, было смешным. Я продолжал быть приверженным к литературе и так и остался классиком. Пусть меня называют эстетом и книжником, но я убежден, что шесть-семь лет занятий классической литературой сообщают уму, подготовленному к ее восприятию, такое благородство, такое изящество, силу и красоту, которых не достичь никакими иными средствами.
Что касается меня, то я с упоением читал Софокла и Вергилия. Г-н Шотар, — я должен это признать, — с помощью Тита Ливия, навевал мне божественные грезы! Дети обладают волшебным даром воображения. Сколько дивных образов зарождается в мозгу шалунов-мальчишек! Когда г-н Шотар не давал мне повода к неистовому смеху, он вызывал во мне восторг.
И неизменно, когда он своим зычным голосом старого проповедника медленно произносил фразу: «Остатки римской армии под покровом ночи достигли Канузии», я видел, как при свете луны, среди опустошенных полей, в молчании идут по дороге между двумя рядами могил усталые воины, держа в руках обломки мечей, бледные, окровавленные, запыленные, в помятых шлемах, в потускневших погнутых латах. И это смутное, медленно таявшее видение, было так торжественно, так мрачно, так величаво, что сердце замирало у меня в груди от скорби и восхищения.
X. КоллежЯ расскажу вам, о чем напоминают мне каждый год беспокойное осеннее небо, первые обеды уже при лампе и листья, желтеющие на деревьях. Я расскажу вам, что я вижу в первые дни октября, проходя по Люксембургскому саду, немного унылому, но особенно прекрасному, ибо в эту пору листья один за другим облетают и падают на белые плечи статуй. Я вижу, как по этому саду, вприпрыжку, словно воробышек, идет в коллеж мальчуган с большим ранцем за плечами, засунув руки в карманы. Я вижу его только мысленно, потому что он — призрак; этот призрак — я сам, каким был двадцать пять лет тому назад. Право, этот малыш нравится мне. Когда он жил, я совсем о нем не думал, но теперь, когда его уже нет, я очень люблю его. Он был лучше всех прочих «я», приобретенных мною позднее, когда я уже утратил его. Он был большим шалуном, но не злым, и я должен отдать ему справедливость: воспоминание о нем не омрачено ничем дурным. Вместе с ним я утратил простодушие; очень естественно, что я сожалею о нем, очень естественно, что я его вижу своим мысленным взором и с удовольствием о нем вспоминаю.
Двадцать пять лет тому назад в такую же осеннюю пору, около восьми часов утра, он шел в коллеж по чудесному Люксембургскому саду. У него слегка сжималось сердце: ведь это же начало учебного года.
Однако он бодро шагал с книгами за спиной и волчком в кармане. Его радовала мысль о свидании с товарищами. Сколько всего надо им рассказать! Сколько всего предстоит услышать! Надо узнать, верно ли, что Лаборьет взаправду охотился в лесу Эгль? А ему сообщить, что сам катался верхом в Овернских горах. Не молчать же о таких подвигах! А как радостно снова встретиться с товарищами! Скорее бы увидеть своего друга Фонтанэ, вечно подшучивающего Фонтанэ, маленького, как крысенок, изворотливого, как Улисс, и всюду легко занимающего первое место.
Как легко стало на душе при мысли о встрече с Фонтанэ! Так вот и шел он свежим утром по Люксембургскому саду. Все, что он видел тогда, вижу я и теперь. То же небо и та же земля, в вещах та же душа, что и тогда, и эта душа и веселит, и печалит, и волнует меня. Нет только его одного.
И потому, с годами, я все чаще и чаще вспоминаю начало учебного года.
Если бы я был живущим в лицее, воспоминания о школьных годах были бы мне тягостны, и я гнал бы их прочь. Но мои родители не обрекли меня на эту каторгу. Я был приходящим в старинном уединенном коллеже, с монастырским укладом. Я ежедневно видел улицу и родной дом, я не был отрезан, как живущие в лицее ученики, от общественной жизни и от жизни семейной. Поэтому в моих чувствах не было ничего рабского. Они развивались с той мягкостью и силой, которые присущи всему, что растет на свободе. К ним не примешивалось ненависти. Моя любознательность была добросердечной, и знать я хотел для того, чтоб любить. Все, что я встречал по пути в коллеж — люди, животные, неодушевленные предметы, — сильно помогли мне ощутить простоту и величие жизни.
Ничто так не помогает ребенку понять общественный механизм, как улица. По утрам ему надо видеть молочниц, водовозов, угольщиков; надо разглядывать витрины бакалейных, гастрономических и винных лавок, надо видеть полк солдат, марширующий с оркестром во главе; словом, надо вдыхать воздух улицы, и тогда он поймет, что закон труда — священный закон, поймет, что у каждого на земле есть обязанности. От этих ежедневных прогулок утром из дома в коллеж, вечером — из коллежа домой, у меня сохранился интерес к ремеслам и ремесленникам.
Впрочем, должен признаться, что я не чувствовал одинаковой приязни ко всем. Сперва меня привлекали писчебумажные лавки, в окнах которых были выставлены лубочные картинки. Как часто, уткнувшись носом в стекло, я прочитывал от начала до конца объяснения к этим коротеньким иллюстрированным драмам.
Очень скоро я перевидал их великое множество: одни картины, фантастические, будили мое воображение и развивали то свойство, без которого даже опытным путем в области точных наук ничего не откроешь. Другие, изображая в наивной и захватывающей форме жизнь человека, впервые столкнули меня с самым страшным, или, вернее, единственно страшным — с судьбой. Да, я многим обязан лубочным картинкам!
Позже, в четырнадцать — пятнадцать лет, я уже не задерживался перед витринами бакалейных лавок, хотя коробки с глазированными фруктами еще долгое время восхищали меня. Я презирал торговцев галантереей и уже не пытался разгадать смысл загадочного «Y», блиставшего золотом на их вывесках. Я почти незадерживался, чтобы расшифровать наивные ребусы, изображенные на узорчатой решетке старых распивочных заведений, где можно увидеть то айву, то комету[259] из кованого железа.
Мой вкус, уже более утонченный, привлекали эстампы, витрины антикваров и лари букинистов.
О старые неряшливые евреи с улицы Шерш-Миди, простодушные букинисты с набережных, учителя мои, как я вам благодарен! Вам я обязан не менее, а может быть, даже более, чем университетским профессорам, своим духовным развитием. Славные люди, вы предлагали моим восхищенным взорам таинственные предметы прошлой жизни и разнообразные драгоценные памятники человеческой мысли! Роясь у вас в ящиках, разглядывая запыленные полки, уставленные скромными реликвиями, оставшимися нам от предков, и плодами их прекрасных мыслей, я незаметно впитывал в себя самую здоровую философию.
Да, друзья мои, перелистывая старинные, источенные червями книги, рассматривая ржавые доспехи, трухлявые резные изделия из дерева, которые вы продавали, чтобы заработать на кусок хлеба, я еще мальчиком глубоко ощутил бренность всего земного и тщету жизни! Я догадался, что мы, смертные, лишь изменчивые образы во вселенской иллюзии, и с той поры стал склонен к грусти, нежности и состраданию.
Как видите, школа на вольном воздухе умудрила меня. Домашняя школа оказалась еще полезнее. Так приятно обедать дома, когда на столе белая скатерть, прозрачные графины, а вокруг приветливые лица; ежедневные семейные трапезы с их задушевной беседой прививают ребенку любовь к домашней жизни, понимание скромных и святых чувств. Если к тому же у него разумные и добрые родители, как это было у меня, то застольные беседы прививают ему верный взгляд на вещи и любовь к окружающему. Он ежедневно вкушает тот благословенный хлеб, который отец небесный преломил и подал ученикам в Эммаусе. Как они, он говорит себе: «Сердце мое горит во мне!»
Трапезы живущих в учебных заведениях лишены уюта и благодетельного влияния. О, домашняя школа, какая это хорошая школа!
Однако мои слова истолковали бы превратно, предположив, что я презираю классическое образование. Полагаю, что для развития ума ничто не может быть полезнее изучения древних греков и римлян, по методу старых французских ученых классиков. Слово «классическая» в значении «изящная по форме» великолепно определяет античную культуру.