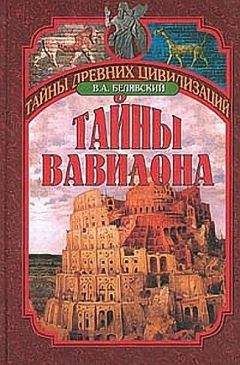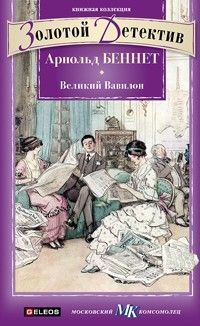Теодор Драйзер - Сестра Керри
— О нет! — успокоил ее муж. — Для парохода это не имеет никакого значения.
Мимо купе прошел светловолосый молодой человек, сынок какого-то банкира из Чикаго. Он давно уже приглядывался к надменной красавице. Даже сейчас он не постеснялся пристально посмотреть на нее, и Джессика это отлично заметила. Искусно изображая равнодушие, она медленно повернула к окну свою прелестную головку. Но это отнюдь не было вызвано скромностью, присущей молодой жене. Просто ее тщеславие было вполне удовлетворено.
А в это время в одном из переулков, выходивших на Бауэри, перед грязным четырехэтажным зданием, чью некогда темно-желтую окраску сажа и дожди превратили в нечто неописуемое, стояла толпа бездомных и среди них — Герствуд. Толпа нарастала постепенно. Сначала перед запертой деревянной дверью топтались два-три человека в полинявших и мятых фетровых шляпах; не в меру широкие пиджаки отяжелели от талого снега, воротники были подняты. Штаны с бахромой, больше похожие на мешки, свисали над огромными дырявыми башмаками. Они не делали попыток войти и только грузно переступали с ноги на ногу, глубоко засунув руки в карманы и поглядывая то на прохожих, то на зажигавшиеся фонари. С каждой минутой очередь все возрастала. Тут были и седобородые старики с ввалившимися глазами, и люди сравнительно молодые, но изнуренные болезнями, и люди средних лет. Полных не было вовсе. У одного лицо было совсем бескровное, у другого — красное, как кирпич. У того были худые, сутулые плечи, этот ковылял на деревянной ноге, третий был живой скелет, на котором болталась одежда. Повсюду виднелись большие уши, распухшие носы, потрескавшиеся губы и налитые кровью глаза. Во всей этой массе — ни одного нормального, здорового лица, ни одной прямой фигуры, никого, чей взгляд не блуждал бы. Под напором ветра и мокрого снега они спотыкались, напирая друг на друга. Мелькали отмороженные, красные кулаки. У некоторых — жалкое подобие шляпы, отнюдь не защищавшей посиневших ушей. Переминаясь с ноги на ногу, эти люди раскачивались в каком-то жутком ритме.
По мере того как толпа возле двери росла, все чаще и чаще слышались ропот и брань, направленные против кого придется:
— Будь они прокляты! Хоть бы поторопились открыть!
— Посмотрите на фараона! Не спускает с нас глаз.
— Может, они думают, что теперь лето?
— Лучше бы сидеть сейчас в Синг-Синге[12].
Внезапно налетел особенно сильный порыв холодного ветра, и бездомные сгрудились теснее. Толпа колыхалась, двигалась, толкаясь. Тут не было ни злости, ни жалоб, ни угроз. Их мрачное, терпеливое ожидание не облегчалось шуткой или чувством взаимного доброжелательства. Мимо проехала карета, в которой, удобно откинувшись, сидел какой-то джентльмен. Один из бедняков, стоявший у самой двери, обратил на него внимание остальных:
— Взгляните-ка на этого молодчика!
— Ему-то не холодно! — отозвался другой.
— Гей! Гей! Гей! — закричал третий, хотя карета давно уже промчалась.
Понемногу надвигалась ночь. Прохожие спешили домой. Торопливо проходили мимо клерки и продавщицы. Проезжали переполненные трамваи. Ярко горели газовые фонари. В домах ровным красноватым светом засветились окна. Толпа несчастных, голодных людей все еще стояла у двери.
— Что ж, они никогда не откроют, что ли? — раздался чей-то хриплый голос.
Это замечание, казалось, вновь пробудило у всех интерес к закрытой двери. Они глядели на нее совсем как собаки, которые скулят и царапают дверную ручку. Они ежились, моргали, и время от времени слышались то возглас, то грубая брань. Они все ждали, а снег, кружась, все бил им в лицо колючими хлопьями, скоплялся на старых шляпах и костлявых плечах. В центре толпы тепло человеческих тел и пар от дыхания растопляли снег, и вода капала с ободков шляп на озябшие носы; но Герствуду не удалось пробраться в середину, и он, понурив голову и сгорбившись, стоял с краю.
В фрамуге над дверью зажегся свет. Толпа встрепенулась и заволновалась в ожидании. Наконец болты внутри заскрипели, и все насторожились. Послышалось шарканье ног, раздался оклик:
— Эй вы, не напирать!
Дверь открылась. В течение минуты в жутком животном молчании протискивались внутрь человеческие тела. Двигались мокрые шляпы, мокрые плечи, озябшая, рыхлая, хрипло дышащая масса людей ползла между голыми стенами. Затем толпа исчезла, растворившись, словно туман над водой. Было ровно шесть часов. На лицах всех прохожих было написано слово «обед». Но здесь не было и помину об обеде — ничего, кроме коек.
Герствуд заплатил пятнадцать центов и устало поплелся в отведенную ему клетушку. Это была грязная, пыльная каморка с дощатыми стенами. Маленький газовый рожок освещал убогий приют.
— Кхе! — откашлялся Герствуд и запер дверь на ключ.
Он начал, не торопясь, раздеваться. Сняв рваный пиджак, он законопатил им большую щель под дверью. Жилет послужил для той же цели. Старый, мокрый, растрескавшийся котелок он положил на стол. Затем снял башмаки и прилег.
Потом, как будто вспомнив о чем-то, Герствуд встал, завернул газ и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чем не думая, а просто колеблясь, потом снова открыл кран, но не поднес спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, а газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Герствуда, он ощупью нашел койку и опустился на нее.
— Стоит ли продолжать? — чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину.
Наконец-то Керри достигла того, что вначале казалось ей целью жизни или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой и счетом в банке. Были у нее друзья — те, кого у нас принято называть этим словом, то есть люди, готовые склоняться перед нею и улыбаться в знак признания ее успеха. Обо всем этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были еще далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным; теперь они стали будничными и потеряли в ее глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и все же была очень одинока. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам.
В жизни всегда встречаются натуры интеллектуальные и эмоциональные — личности рассуждающие и личности чувствующие. Из числа первых выходят люди действия — полководцы и государственные деятели, из числа вторых — поэты и мечтатели, служители искусства.
Как эоловы арфы откликаются на легчайшее дуновение ветра, так их фантазия отражает все изменения и колебания в мире идеального.
Человечество еще не поняло мечтателя, как не поняло еще и сущности этого идеального. Для мечтателя законы и требования житейской морали слишком строги. Вечно прислушиваясь к зову красоты, чутко внимая взмаху ее далеких крыльев, он готов следовать за ней, пока в долгом пути ему не откажут ноги. Так вот прислушивалась и Керри, так и она мысленно шла за красотой, напевая в своей качалке.
Надо помнить, что выбор того или иного решения в жизни она всегда делала бессознательно. Когда Чикаго впервые смутно обрисовался перед нею, ей казалось, что город сулит ей неизведанные радости, и она инстинктивно, поддавшись влечению своей натуры, ухватилась за него. Люди, изящно одетые, живущие в комфорте, казались ей счастливцами, и потому ее потянуло к такой жизни. Чикаго и Нью-Йорк; Друэ и Герствуд; мир роскоши и мир сцены — все это были лишь эпизоды. Не к ним, а к той жизни, которую они, по ее мнению, олицетворяли, влекло ее. Время показало, что ее представления были ложны.
О, путаница человеческой жизни! Как еще смутно понимаем мы многое! Вот Керри совсем юная — бедная, неискушенная, полная эмоций. Ей хочется всего, что есть приятного в жизни, но она наталкивается на глухую стену. Закон сказал бы: «Прельщайся, если хочешь, приятными вещами, но не приближайся к ним иначе как честным путем!» Приличие сказало бы: «Не добивайся житейских благ иначе как честным трудом!» Но если честный труд скудно оплачивается и изнуряет; если этот путь так длинен, что красоты никогда не достигнешь, только утомишь ноги и сердце; если тяга к красоте так сильна, что человек сходит с прямого пути и ищет дорогу, быстрее приводящую его к предмету мечтаний, — кто первый бросит в него камень? Не злое начало, а жажда лучшего чаще всего направляет шаги сбившегося с пути. Не злое начало, а доброта чаще всего соблазняет впечатлительную натуру, не привыкшую рассуждать.
Керри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали ее. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала: «Теперь я вознеслась на высшую ступень!» Когда-то Герствуд будто открывал перед ней лучший путь, и она думала: «Теперь я счастлива!» Но мир холодно проходит мимо тех, кто не принимает участия в его безумствах, и она осталась одна. Ее кошелек был всегда открыт для всех, чья нужда была особенно остра. Гуляя по Бродвею, Керри больше не думала об элегантности тех, кого она встречала. И только если в их жизни было больше той гармонии и красоты, которые мерцали где-то далеко, тогда этим людям стоило завидовать.